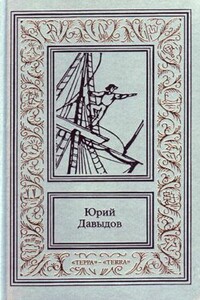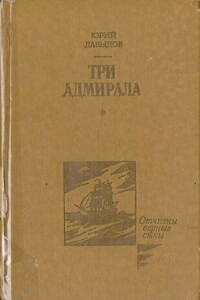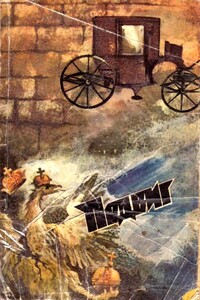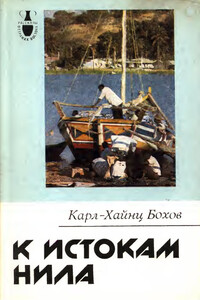На шхуне | страница 22
Матросы с «Константина» опешили. Да как так? Прямой бунт учинился на баркасе? За такое на военном, на императорском – шпицрутены, ежели не петля. Прямой бунт! И по справедливости этот самый приказчик, что на баркасе был, ни при чем он тут, этот самый Николай-то Васильевич Захряпин. Как же так?
– Воля, говорит, ваша, – все более воодушевляясь, продолжал Феропонт, – стоит и ждет. А нам тут вроде глаза промыло. А ведь взаправду не виноват он перед нами, по-божески ежели, то и не виноват, никак не виноват. И страшно нам сделалось, что безвинного человека погубить надумали. Отступились мы, прости, говорим, Николай Васильевич, прости, коли можешь, прости и не выдай. Что же ты думаешь? Думаешь, так тебе и заквохчал: не выдам, мол, братцы, ни за что не выдам? Али крест целовать стал? А ничуть! Ничего такого! Помолчал малость, да как взвился: «А ну, выгребай!» Мы к веслам и давай гресть, давай гресть. Выгребли из-за камней, Николай Васильевич парус велит ставить, а те, которые, кричит, спьяну чумеют, те, кричит, мордой в воду…
– И не пожалился? – недоумевали матросы. – Начальству рапорт?
– А ни-ни, – отрезал Феропонт.
– Пожа-алился, – скривился Калистрат. – Здеся, что в тайге, – власти где? Ищи-свищи. Я б ему пожалился…
– Ух ты, сокол какой, – негромко заметил Иона-тихоня. – Скажите на милость, Стенька Разин…
– Стенька не Стенька, – прихмурился польщенный Калистрат, – а не замай! Не замай! – И он помотал кулачищем.
В то самое время рядом, на шхуне «Константин», приказчик Захряпин, угостившись бутаковской сигарой, открывал совсем иную историю.
Было уже довольно выпито, все курили и, дожидаясь чаю, слушали Николая Васильевича. Слушали не из одной вежливости, ибо то, что говорил он, бросало на ученую экспедицию новый свет.
Один Федор Степанович Мертваго казался равнодушным и даже скучающим.
Бывшему капитан-лейтенанту Балтийского флота давно перевалило за сорок. На испитом лице его, под глазами, набрякли мешочки, голова сильно облысела, на темени и на висках остались клочки тусклых волос. Федор Степанович хорошо знал Захряпина, испытывал к нему почти отцовское чувство, однако все, что теперь рассказывал он, не только не занимало шкипера, но раздражало его, хотя раздражения своего и протеста Федор Степанович покамест не обнаруживал. Мертваго сидел рядом с Бутаковым, устало опустив плечи, зажав в зубах коротенькую трубочку, и, потупившись, вертел порожнюю рюмку.
А Захряпин, пощипывая молодую бородку и блестя глазами, с увлечением повествовал, как, будучи в Москве, посетил он Платона Васильевича Голубкова, «большого стотысячника, ежели не мильонщика», посетил в собственном его дому, что в Богословском переулке близ Тверской.