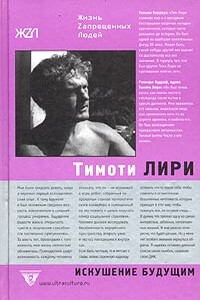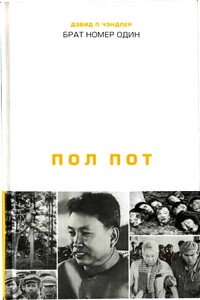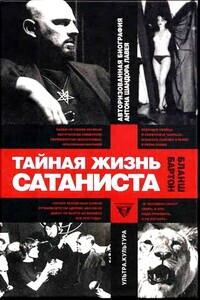Революционное самоубийство | страница 64
Порой я шел в квартал учительствовать, читал стихи, завязывал беседы на философские темы. Я говорил с братьями о тех вещах, о которых писали Юм, Пирс, Локк или Уильям Джеймс. Эти разговоры помогали мне самому лучше запоминать прочитанное и иногда находить ответы на мои собственные вопросы.
Все эти мыслители использовали один и тот же научный метод, облекая свои идеи в отдельные формулировки. Не подходившие под эти формулировки вещи они исключали. Я объяснял все это братьям, и мы говорили о существовании Бога, самоопределении и о свободе воли. Обычно я спрашивал у них:
— У тебя есть свобода воли?
— Да.
— Ты веришь в Бога?
— Да.
— Твой Бог всемогущ?
— Да.
— Он всеведущ?
— Да.
Подытоживая ответы, я выводил заключение о том, что их всемогущий Бог знает все наперед. Потом я выдавал тираду: «Если так оно и есть, как же вы можете говорить о свободе воли, когда Он знает все, что ты собираешься делать еще до того, как ты это сделал? Твои поступки предопределены. А если это не так, тогда получается, что твой Бог солгал или допустил ошибку, а ты говоришь, что твой Бог не может совершить ни того, ни другого». С подобных дилемм начинались споры, растягивавшиеся на целый день, и тут же требовалась не одна бутылка вина. Эти беседы проясняли мои мысли, хотя из-за них я мог прийти в колледж сильно нетрезвым.
Некоторые братья считали меня ученым педантом, который только и хотел, что их унизить. Из-за мнимых оскорблений порой начинались драки. Особенно хорохорились новички. Они еще не знали меня и моих отношений с братьями. Мне нравилось рассуждать о философских идеях, а уличные братья были единственными людьми, в компании которых мне хотелось проводить тогда время. Я находил удовольствие в нашем времяпрепровождении: мы стояли на углу, встречались со знакомыми людьми, наблюдали за женщинами. Мы относились к тем, кто боролся за выживание в нашем квартале.
Такие мужские разговоры случались где угодно — например, в машинах, припаркованных перед магазином, где торговали спиртными напитками, на Сакраменто-стрит неподалеку от Эшби в Беркли. Мы могли разговаривать, выйдя из помещения, где вовсю шла вечеринка, или иногда прямо там.
Я рассказал братьям миф о пещере из «Республики» Платона, и они пришли от него в восторг. Мы называли этот миф историей о пещерных узниках. Здесь Платон описывает состояние людей, заключенных в пещере. Представления о внешнем мире они получают, наблюдая за тенями, которые отражаются на стене пещеры благодаря костру, горящему у входа. Один из узников обретает свободу и узнает, каков внешний мир, т. е. объективная реальность, на самом деле. Он возвращается в пещеру, чтобы поведать остальным о том, что картины на стене — это вовсе не реальность, а лишь искаженное ее отражение. Узники называют его сумасшедшим, ему не удается переубедить своих собратьев. Освободившийся человек пытается уговорить одного из них выйти из пещеры, но тот приходит в ужас от мысли о том, что ему придется столкнуться с чем-то неизвестным, новым. Когда беднягу все-таки вытащили из пещеры, он ослеп, увидев солнце. Казалось, что Платоновская аллегория очень точно отражает наше собственное положение в обществе. Мы тоже находились в заключении, и нам тоже требовалось освободиться, чтобы усидеть разницу между правдой и ложью, в которую нас заставляли верить.