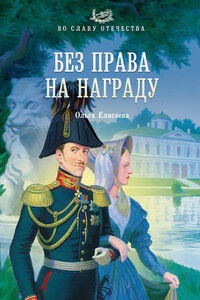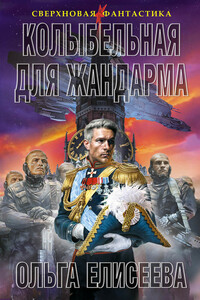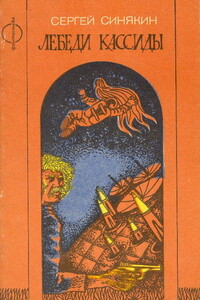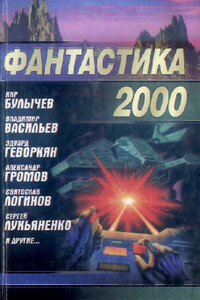'Прости, мой неоцененный друг!' (Екатерина II и Е Р Дашкова) | страница 9
Не правда ли тон чрезвычайно похож? Перед нами возникает некий идеальный образ подруг, которые и думают, и чувствуют почти одинаково, а главное -- умеют описать возвышенные движения своей души сентиментально-восторженным слогом. В реальной жизни подруги должны были научиться строить внешнюю модель своего поведения, как нежные героини полотен Боровиковского и Лампи. Изящные головки, увитые едва распустившимися розанами и лентами, нежно склоненные друг к другу, на полуоткрытых устах застыли трепетная улыбка, вздох или воздушный поцелуй. В последней четверти XVIII в. так стали изображать даже крестьянок: например, "Портрет Лизаньки и Дашеньки", крепостных девушек из дома архитектора Н.А. Львова.
Само собой разумеется, что большинство женщин того времени вовсе не искало "идеальной дружбы". Они ездили друг к другу в гости посплетничать о знакомых, обменяться новыми французскими картинками мод или рецептами блюд. Но мы говорим о дамах, высоко стоявших над общим уровнем и превращавших свою дружбу в настоящий акт высокого искусства.
Мир -- театр
Перед нами единая душа, разделенная на две половины, песня, спетая на два голоса, пьеса для двух главных героинь, которые не уходят с подмостков и держат зал в напряжении весь спектакль. Вновь мы упираемся в проблему нарочитой сценичности мира, в котором жили Екатерина II и Дашкова, театрализованности чувств и действий, обязательной оглядки на то, как действующие лица выглядят из партера.
Даже обороты языка того времени отражали полное воплощение знаменитого Шекспировского "мир - театр, и люди в нем - актеры". "Общество" называлось "публикой", собственная жизнь - "ролью", любое место действия "театром". В 1787 г. после начала второй русско-турецкой войны Екатерина II скажет барону М. Гримму: "Моя роль давно написана, и я постараюсь сыграть ее как можно лучше". Потемкин, получая в 1774 г. отставку с поста фаворита, будет просить "изгнать" его "не на большой публике", т.е. не в присутствии всего двора. В оде "Водопад", посвященной светлейшему князю, Г.Р. Державин скажет об успехах Григория Александровича на Черном море: "Театр его -- был край Эвксина".
Декорации, подмостки, зрительный зал -- такой взгляд на окружающий мир диктовала европейская культура XVI, XVII, XVIII вв. Люди не замечали, что их колоссальные театральные махины лишь кажутся такими прочными. Театр, в котором в полном смысле слова жили и умирали герои, заливая сцену реками своей крови и перекраивая реальную карту мира с такой легкостью, словно она и правда была нарисована только на бумаге, оказался выстроен на семи ветрах. И когда грянула большая гроза французской революции, подмостки не выдержали.