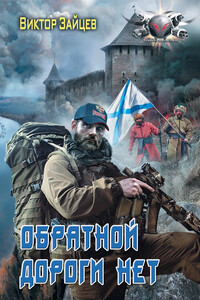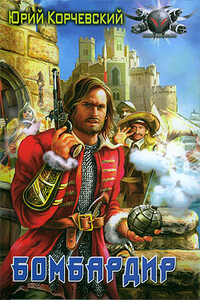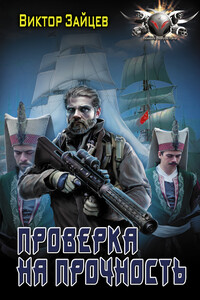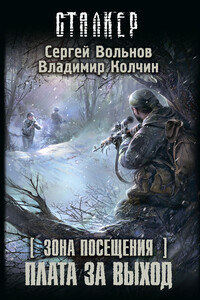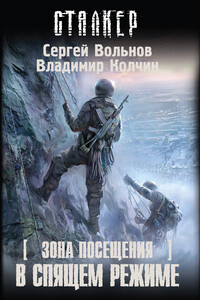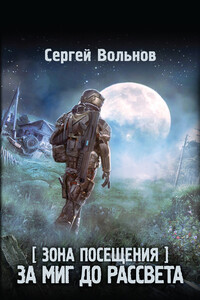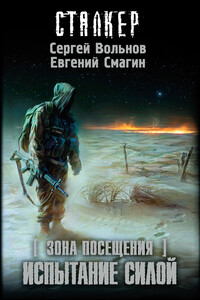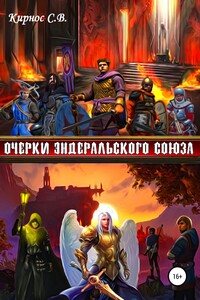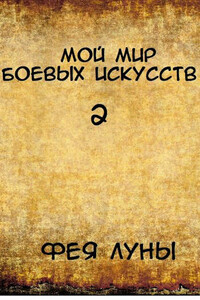Пожиратель Пространства | страница 53
А иные, менее толерантные, за диплом и отдубасить могут.
Это если речь о дипломе сугубо академическом пойдёт. Как мой несостоявшийся, примерно. Специалистов они, конечно, лелеют да ублажают; но – практиков. А вот к науке академической – вольные относятся со злобностью флоллуэйцев, тех самых, что прославились как лучшие в ОП наёмники.
«Вдруг эти „яйцеголовые“ гады пресловутую нуль—транспортировку изобретут!», – наверняка с опаской думают вольные. Насколько я понимаю ход их мыслей, именно это достижение прогресса для торговцев нежелательнее смерти, в каком—то смысле.
«Кому тогда корытца наши понадобятся, пространство бороздящие?», – со страхом задаются фритредеры вопросом. Ответ однозначный: НИКОМУ! В случае открытия неких «каналов» звездолёты понадобятся разве что первопроходцам.
«Или вдруг эти учёные до синтезатора материи додумаются, который сможет всё—всё—всё синтезировать…», – развивают они мысль. Вопрос: НА КОЙ тогда торговля нужна?! Ответ – не менее очевиден…
«Ату их, академиков, докторов, профессоров, доцентов, магистров, бакалавров! Прочие нечеловечьи их аналоги – тоже ату!!».
…Сектор космобазы, в котором совершил посадку доставившее меня на Танжер—Бету пассажирское судно, носил название «Западнее Калифорнии». Самое интересное, что сектора с названием «Калифорния» попросту не существовало.
Улица, на которую я ступил, была покрыта камнем; некогда белым, но уже несколько потускневшим от прикосновения миллионов ног, прошаркавших по нему. Улица—коридор ветвилась. Глотали и выплёвывали местных жителей и несметных туристов более узкие проходы—проулки; некоторые из которых, покидая уровень, убегали вниз или вверх.
Из ретрансляторов, установленных где—то наверху, среди грубоватых рельефов, высеченных непосредственно на теле астероида – расширенном своде одного из бывших рудничных штреков, – доносились звуки, напоминающие разбушевавшийся ураган. Сквозь грохот прорывались монотонные витиеватые стихи на косморусском. Уши невольно выхватили слова: «…но виртуальности помня основы стану я вновь электронным набором чтоб на себе воссоздать тебя снова…»
Перекрикивая бурю и навязчивого декламатора, из других ретрансляторов слышалось нечто более похожее на музыку. Чуть хрипловатый, чуть надрывный женский голос пел: «Лав ми эвринайт, лав ми эвринайт!». Песня понравилась. Однако языка, на котором она исполнялась, я ещё не знал, и смысла слов не понял.
Музыка на этой сводчатой улице вела себя необычно: струилась пОверху, а примерно на уровне человечьей груди словно сталкивалась с упругим барьером. Путь ей преграждал бесконечно—непрекращающийся гул, заваренный из голосов, металлического лязганья и прочих социально—индустриальных звуков. И две эти прослойки не желали подчиняться законам диффузии, существуя раздельно: музыка сверху, а голоса и лязганье – снизу. «Интересно, – подумал я, – этот спецэффект был задуман и воплощён, или сам по себе возник, случайной аномалией?..»