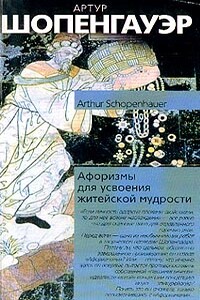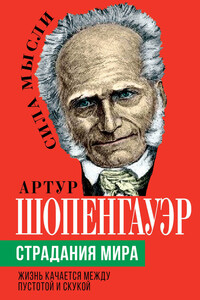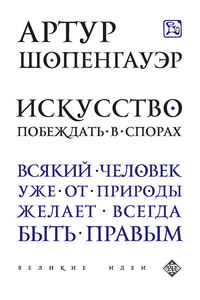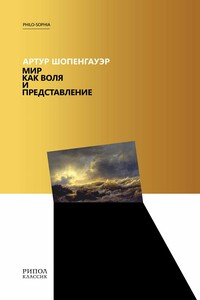О четверояком корне закона достаточного основания | страница 14
§ 9. Лейбниц
Лейбниц первым формально установил закон основания как главный закон всего познания и всей науки. Он торжественно провозглашает его во многих местах своих произведений, придает ему большое значение и делает вид, будто открыл его: однако сказать он может только одно: что всё и каждое должно иметь достаточное основание, почему оно такое, а не иное,— что мир, надо полагать, знал и до него. Он, правда, иногда указывает на различие двух главных значений этого закона, но не подчеркнул его решительно и нигде отчетливо не пояснил. Главное об этом содержится в No 32 его Principes philosophiae, несколько лучше оно выражено в их французской переработке, озаглавленной «Монадология»: En vertu du principe de la raison suffisante nous considerons qu'aucun fait ne saurait se trouver vrai ou existant, aucune enonciation veritable, sans qu'il у ait une raison suffisante, pourquoi il en soit, ainsi et non autrement>032 . Ср. также § 44 «Теодицеи» и пятое письмо к Кларку, § 125.
§ 10. Вольф
Таким образом, Вольф первым отчетливо обособил два главных значения нашего закона и показал разницу между ними. Однако он излагает закон достаточного основания еще не в логике, как это делается теперь, а в онтологии. Здесь он в § 71 уже настаивает на том, что закон достаточного основания нельзя путать с законом причины и действия, но еще не определяет отчетливо различие между ними и подчас сам путает их; так, тут же в главе «De ratione sufficieate», §§ 70, 74, 75, 77, приводит для доказательства principium rationis sufficientis примеры причины и действия, мотива и поступка, которые, если он хочет соблюсти указанное различие, следовало бы привести в главе «De causis» той же работы. В этой же главе он опять приводит подобные примеры и вновь устанавливает здесь principium cognoscendi (§ 876), который сюда, как было уже указано выше, не относится, но позволяет установить определенное и отчетливое различие между ним и законом причинности, что и совершается затем в §§ 881—884. Principium, говорит он далее, dicitur id, quod in se continet rationem alterius, и различает три его вида, а именно: 1)