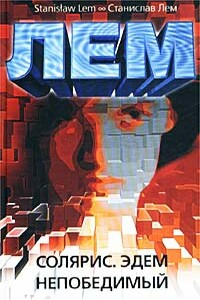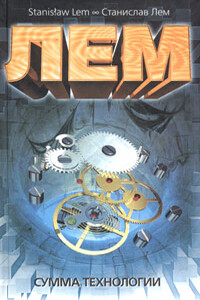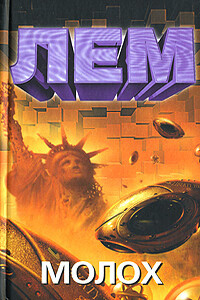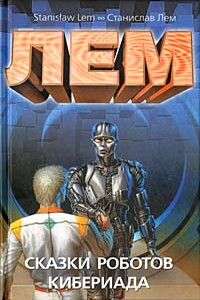Философия случая | страница 75
1) В качестве идиографии произведение представляет собой псевдопротокол событий, уведомляющий нас о том, какие бывают, например, крайности амплитуды человеческой судьбы в обе стороны от ее «бытового усреднения» – либо какими своеобразными бывают повороты человеческих судеб. При таких подходах мы имеем дело, конечно, prima facie с показом статистически-массовой природы социальной жизни.
2) В качестве «энумерационной гипотезы» произведение ведет себя подобно тому, кто скажет, что данный кусок олова плавится при 400 градусах и что то же самое произошло вот с тем и еще с тем-то куском олова. Тем самым начинается индуктивное рассуждение по схеме: «Если x>1 есть S, x>2 есть S, x>3 есть S, то x>n тоже есть S» – и затем делается вывод в форме утверждения, имеющего универсальную значимость: «[Общий квантификатор] – для каждого x – если x есть олово, то x плавится при температуре 400 градусов».
А тот, кто на материале литературного произведения показывает, что в местах текста A, B, C, D происходит то-то и то-то, объявляет затем (как имеющее универсальную значимость), что и в других, не поименованных в этом списке местах R, S, T, U происходит то же самое.
3) В качестве оборванной на половине импликации произведение, рассказав нам, как обстоит дело с «неким p», подсказывает, что поэтому можно подразумевать и «некое q».
Однако по существу проблема заключается в том, что можно считать литературные произведения – с одинаковым основанием —
(1) либо за такого рода не доведенные до конца индуктивные заключения или приостановленные импликации, причем литературные произведения оказываются примером такого идиографического подхода, номотетическим продолжением которого служат выводы, возникающие (даже неизбежно) в сознании читателя, или же предпосылки, ведущие к этим выводам;
(2) либо за описание, из которого мы узнаем о некоей одноразовой и принципиально неповторимой серии событий.
Эту дилемму можно разрешить только на вероятностных основаниях, а результат зависит лишь от оценки, которую первому или второму варианту дает исследователь этой проблематики.
Здесь надо вернуться к уже упомянутому факту, что ход событий может придать пустым именам десигнативность. Когда какой-нибудь читатель говорит, что «Гамлет» не изображает реальных событий, то этого читателя не смутишь, показав ему на театральных подмостках людей, которые делают все рассказанное (в виде текста драмы) в «Гамлете». Потому что он заметит, что люди эти – актеры и только притворяются, что берут всерьез то, что говорят и делают в ходе спектакля. Суждения, которые они высказывают, не «ассертивны». Однако вместе с тем разрешимость дилеммы зависит от различных конкретных обстоятельств. Пусть удалось бы, хотя бы с колоссальным расходом сил и средств, добиться, чтобы все описанное в «Кукле» Пруса произошло так, как там изображено. Произошло бы не в кино, а в действительности, хотя бы потребовалось для этого выстроить Варшаву и Париж конца XIX века, с лабораторией профессора Гайста включительно. Мы говорим о таких невероятных вещах не для того, чтобы нагнать тумана, но чтобы обратить внимание на трудность оценки степени «искусственности», которую могут приобретать десигнаты первоначально пустых имен.