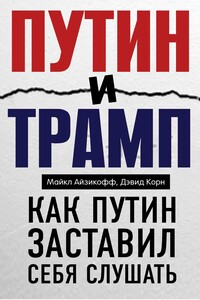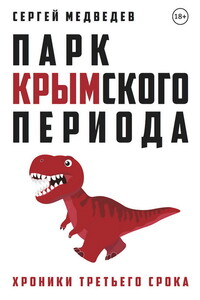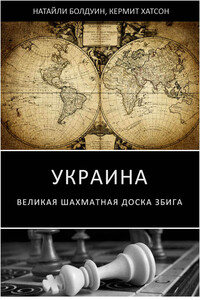Марксизм: не рекомендовано для обучения | страница 42
Но западный марксизм - это не только Франкфуртская школа. Сюда же надо отнести и философские работы Ж.-П. Сартра, пришедшего к марксизму от экзистенциализма, и поздние работы Льва Троцкого, не говоря уже о его многочисленных учениках, «Тюремные тетради» Антонио Грамши, Дьердя Лукача и многих других.
Можно ли в таком случае говорить о западном марксизме как едином целом? Думаю, что можно. Ибо, несмотря на серьезные различия между этими теоретиками и школами, у них есть и целый ряд общих черт.
Что характеризует западный марксизм?
Прежде всего, произошедшее в конце 1920-х - начале 1930-х годов размежевание между политическим и академическим марксизмом. До сих пор ведущие теоретики неизменно имели отношение к политическим организациям рабочего класса. Они занимали позиции во внутрипартийных дебатах. Даже если они не возглавляли партии, как Ленин, они имели прямое влияние на их деятельность.
Теперь ситуация радикально меняется. Формально политические партии все еще ссылаются на марксизм, но на практике ни социал-демократы, ни коммунисты не проявляют особого интереса к теории, а уж тем более - к теоретикам. Социал-демократы по факту становились бернштейнианцами, хотя идеи Эдуарда Бернштейна никогда не были признаны их официальной идеологией. Более того, его долгое время по инерции продолжали осуждать.
Но Бернштейн, как говорят англичане, вытащил кота из мешка. То есть он высказал то, что говорить не полагалось. Что теория, в сущности, не нужна. Ни один ответственный политический лидер такое в социал-демократии 1920-х годов не решился бы сказать публично.
Впоследствии, уже после Второй мировой войны, об этом стали говорить уже открыто. Но не в 1920-е годы. Культура рабочего движения формировалась на марксизме, обучение кадров было основано на том, что люди должны усвоить какой-то набор марксистских тезисов. Потому теорию нельзя было отвергнуть публично. Ее просто забывают, потому что руководству она не нужна. Для принятия политических решений не надо читать книги по истории классового сознания.
Коммунистические партии в 1930-е годы, в отличие от социал-демократов, провозглашают культ идеологии. Но новая теория им тоже не слишком нужна. Во-первых, внутренние конфликты, происходящие в СССР, воспроизводятся в западных партиях. В результате партии систематически очищаются от инакомыслящих, культура дискуссии умирает.
А с другой стороны, спорить особенно не о чем. Готовая теория уже есть, единственно верная. В случае чего советские товарищи дадут новые политические и идеологические установки. Для развития теории есть в далекой Москве товарищ Сталин или еще кто-то, кому положено этим заниматься.