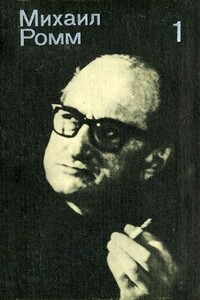Кино в системе искусств | страница 17
Эстафета реализма была принята кинематографом из рук театра. Театр уже не может соревноваться с кинематографом в жизненной достоверности.
Исключительно интересные и точные примеры, подтверждающие эту мысль, мы находим у Станиславского. Рассказывая в книге «Моя жизнь в искусстве» о постановке в МХАТе «Власти тьмы» Толстого, Станиславский уделяет страницу одному интереснейшему обстоятельству. Готовясь к спектаклю, Станиславский «для образца», как он пишет, привез из деревни в Москву двух крестьян – старика и старуху. Старуха оказалась настолько талантливой, что ей была поручена роль Матрены, которую она исполняла с необыкновенной правдивостью, простотой и точностью. Станиславский восхищается тем, как старуха крестьянка спокойно и деловито доставала яд, передавала его Анисье, объясняла, что с ним надо делать. Однако ее жизненно правдивое поведение настолько не соединялось с игрой остального состава, настолько разрушало актерский ансамбль, что старуху, к сожалению, пришлось перевести в толпу, которая собиралась перед избой умершего Петра.
Далее Станиславский пишет:
«Я спрятал ее в дальние ряды, но одна нота ее плача покрывала все остальные возгласы».
Иными словами, нота ее плача была настолько подлинна, что все остальные актеры не выдерживали соперничества. Пришлось снять ее и с этой сцены.
«…Не имея сил с нею расстаться, – продолжает Станиславский, – я придумал для нее специальную паузу, во время которой она одна проходила через сцену, мурлыча песенку и зовя кого-то вдали. Этот оклик старого слабого голоса давал такую ширь подлинной русской деревни, так врезался в память, что после нее никому нельзя было показаться на сцену». Пришлось снять старуху и с этого коротенького эпизода.
«Была сделана последняя попытка, – заканчивает Станиславский, – не выпускать ее, а лишь заставить петь за сценой. Но и это оказалось опасным для актеров».
Вдумайтесь в то, что рассказывает в этом отрывке гений театральной режиссуры: кусочек жизненной правды, вынесенной на сцену самого правдолюбивого из театров, так резко контрастировал с игрой самых правдивых в мире театральных актеров, что пришлось этот кусочек жизненной правды выбросить вон.
Между тем мы в кинематографе привлекаем типаж сплошь и рядом, а итальянцы поручают неактерам исполнение крупнейших, ответственнейших ролей (например, главные роли в картинах «Похитители велосипедов» или «Два гроша надежды»). Ни у нас, ни в Италии появление на экране подлинного человека не расходится с кинематографической манерой актерской работы, а, наоборот, обогащает картину.