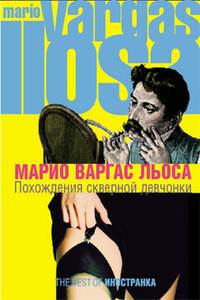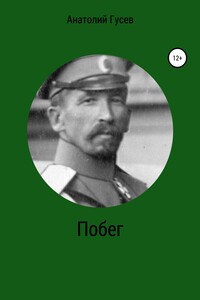Биография голода | страница 66
Через неделю после возвращения в родную, самую родную страну я познакомилась с двадцатилетним токийцем. Он сводил меня в музей, в ресторан, в концерт, к себе домой, наконец, представил родителям.
Такого со мной еще не бывало: чтобы парень отнесся ко мне как к человеку.
К тому же он был хорош собой, умен, обаятелен, безукоризненно вежлив – полная противоположность всем моим брюссельским приятелям.
Звали его Ринри, что значит «Достойный», – таким он и был. Очень редкое имя, примерно как у нас какой-нибудь Претекстат или Элевферий, но у японцев вообще в ходу имена-диковинки.
Ринри был богатый наследник, сын самого крупного в Японии ювелира.
Со временем он должен был принять отцовское дело, а пока учился – так же, как я и как в Японии учатся все, за исключением студентов одиннадцати знаменитых университетов, то есть спустя рукава.
Он изучал французский язык и литературу для собственного удовольствия, и я обогащала его словарный запас.
В свою очередь он расширял мою лексику – я учила деловой японский.
Языковая практика служила предлогом для увлекательных эскапад.
Ринри водил собственную «якузу», ослепительно-белую и блестящую, как его зубы.
– Куда мы едем? – спрашивала я.
– Увидишь, – отвечал он.
И к вечеру мы были в Хиросиме или на катере, идущем на остров Садо.
Ринри открывал японско-французский словарь, долго рылся в нем и провозглашал:
– Вот! Ты – феноменальная.
Его семья отнеслась к моему появлению без большого восторга: единственный наследник полюбил европейскую девушку. На меня смотрели косо. И, оставаясь чрезвычайно вежливыми, давали понять, что я нежелательная особа.
Ринри ничего этого не замечал. Настоящее сокровище этот юноша. Я сохранила о нем самые лучшие воспоминания.
Я была на год старше его, и этого оказалось достаточно, чтобы я превратилась в анэ-окусан, то есть в «замужнюю старшую сестру». Предполагалось, что я, с высоты своего опыта, буду наставлять «младшего брата».
Забавно! Я пыталась научить его пить крепкий чай, а его стошнило.
С 1989 года сочинительство стало моим основным занятием. Мне надо было снова прикоснуться к японской почве, чтобы набраться необходимой энергии. Там я вошла в прочно установившийся ритм: писать не меньше четырех часов в день.
Это занятие уже не имело ничего общего с тем, чем было вначале, когда я лихорадочно выдирала из себя слова с мясом; оно стало тем, чем остается до сих пор: сильнейшей тягой, упоительной авантюрой, неослабевающим желанием, жадной потребностью.