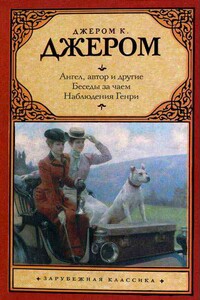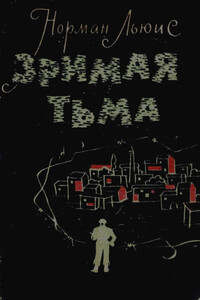Фунт лиха | страница 64
Неверно говорят, что жалость унижает человека, это всего лишь школьная заповедь, которой любят козырять недозрелые юнцы, соблазняя собственными страданиями, мужеством в кавычках таких же недозрелых девиц, любят этим афоризмом пофорсить короли подъездов да многочисленные гитаристы, заполонившие скверы, под бренчанье расхлябанного инструмента помыкивающие песенки на рязанско-английском либо елецко-французском наречии, а в перерывах весьма ловко и легко настропалившиеся излагать «вумные мысли», дабы поразить аудиторию — им, им же под стать. И такую же полоротую. Эта расхожая школьная заповедь выдумана, сочинена слабыми людьми. Для таких же слабых, как и они сами. Сильные люди никогда не боятся жалости, не боятся печали, душевной боли и слез, не чураются, не шарахаются в сторону, когда слышат слова утешения, обращенные к ним. Ибо жалость приносит очищение, освобождение от тягот, всего недоброго, наносного, что накопилось в душе, и не гоже ее бояться, считать, что она унижает дух, тело, душу.
Разве человека унижают жалеющие слова матери? Отца? Жены? Любимой женщины?
В Присыпко тоже пропал интерес к драгоценностям, он, увидев деловитого, вооруженного ножом и ледорубом Манекина, также остыл, обузился лицом, в глазах появилось что-то тревожное, раздраженное, кислое.
А напарник тем временем, ни слова не говоря, опустился на колени и, тщательно примерившись, всадил клюв ледоруба в лаву, выковырнул первое ядрышко, крупное, какие ни Тарасову, ни Присыпко не попадались. И как он только углядел его, заметил среди остальных, не промахнулся? Вот что значит верный глаз. Глаз — ватерпас. Вот что значит хватка!
Они оба сразу же, едва появился Манекин, почувствовали себя хуже. В легких Тарасова что-то захрюкало, будто в поломанном движке, делающем свои последние обороты, боль стиснула грудь, плечи, заставила вспухнуть жилы в височных выемках, забухала колоколом в ушах, и усталость навалилась такая безысходная, неодолимая, что было трудно сделать даже самое малое движение.
— Володь, — позвал Тарасов, подумал, что вон не только легкие хрипят, а и голос его изменился, набряк болезненной сыростью, осенним мраком, сделался неприятным, коростелиным. Ствердил глаза в узком колком прищуре. — Слышь, Володь, в палатку нам пора, не то связчик наш один там остался.
— Ты прав, — отозвался таким же сырым голосом Присыпко. Затряс судорожно плечами, изгоняя из себя боль и слабость. Голос его начал слабеть буквально на глазах, сделался чужим, спотыкающимся. — На-до назад, в палат-ку... Нельзя Студен-цова одного остав-лять... Мало ли что, а? Все ведь... мо-жет случиться.