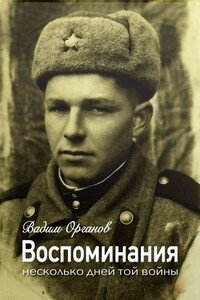Фунт лиха | страница 34
— Э-эй, мужики! Живы?
— Живы, — охотно, довольно бодрым тоном отозвался Манекин. Не берет этого парня голод. Ни голод, ни беда.
Студенцов заворочался в своем спальнике, но голоса не подал, промолчал. То ли он сознание потерял, то ли спал, то ли проста сил на разговор не было.
— Те-езка! — позвал Присыпко. — А-а, те-езка! Чего молчишь?
В спальнике снова шевельнулся Студенцов, выпростал из-под, клапана худое, здорово задетое морозом и голодом лицо. На скулах, на лбу у него образовались сухие коричневатые лишаи, кожа на носу облезла, собралась в жесткие скрутки — в общем, ничего хорошего в его лике не было. А вот глаза, те еще не сдавались — как были упрямыми, лихими, так упрямыми, лихими и продолжали оставаться.
— Плохо тебе, тезка? — не унимаясь, скрипел Присыпко. — А, тезка? — Он словами этими, немудреными, даже более — примитивными, механическими, беспрепятственно проникающими сквозь слабое сито мозгового контроля, идущими не от извилин, не от способности мыслить, а от того, что человек умеет говорить, старался поддержать себя, тепло жизни своей, что, как оказалось, довольно слабо билась в нем, старался звуком голоса своего возродить былое — силу былую, ловкость, гибкость ума и движений. Но, увы, слаб он был, слаб. Тем не менее он снова упрямо заскрипел: — Чего молчишь, а, Володь? Плохо тебе?
Над Студенцовским спальником медленно всплыло облачко пара.
— Держусь... Пока еще держусь.
— Держаться нам надо, — упрямо напрягал свой голос Присыпко. — Надо... — По бесцветности слов, по тому, как Присыпко выговаривал каждую буковку, чувствовалось, что он находится где-то на грани сознания и бессознательности. Вот он снова машинально повторил: — Ты прав... Держаться нам надо... Надо... Надо... Надо... — он повторял и повторял слова, будто старая заезженная пластинка с запинающимся и все время возвращающимся в одно и то же место голосом. — Надо... Надо...
Слабыми заторможенными движениями Студенцов расстегнул на себе спальник, вытащил руку из кокона, потряс Присыпко за плечо.
— Эй! Очни-ись!
Тот дернулся, будто от укола, раскрыл глаза, замолчал.
А Тарасов в это время чистил на улице убитую галку. Ружье он специально оставил снаружи, прислонив его к палатке, предварительно выбив из ствола стреляную гильзу и вогнав на ее место неизрасходованный цельный патрон — он привык стрелять из одного ствола, левого, поэтому новый заряд загнал именно в левый ствол. В этом случае у него была твердая уверенность, что не промахнется и если снова появятся галки или, еще лучше, кеклики, то он обязательно попадет, уложит хотя бы одну птицу. Обязательно! Ружье, готовое для стрельбы, находилось рядом.