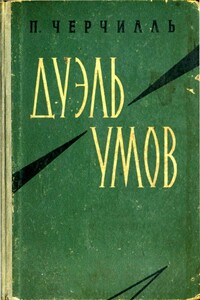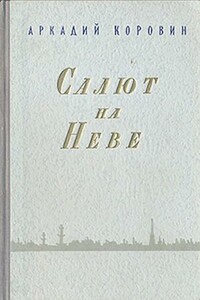Той победной весной | страница 21
— Почему?
— Не могу, товарищ лейтенант.
— Ничего не понимаю, почему не можешь? Кто тебе мешает?
— Старуха.
— Ты же сам говоришь, что она совсем слабая. Как она ухитряется мешать?
— Старуха хоть и больная, но на язык вполне здорова. Кричит, вопит, никого близко не подпускает.
— Пусть кричит, сколько ей угодно, делайте свое дело.
Сарыджалы помотал головой и начал объяснять:
— Понимаете, товарищ лейтенант, в доме три комнаты — кухня, спальня, столовая. На кухне и в столовой негде повернуться от всякого барахла. Раненых там не разместишь. Свободна только спальня. А там старуха. И никого туда не пускает. Как только подходим к двери — кричит так, будто ее режут.
— Может, она боится вас? Дайте ей понять, что вы ее не тронете.
— Да мы и так успокаивали, уговаривали… Старшина даже по-немецки пытался с ней заговорить… Но она, проклятая, ничего и слышать не хочет.
— Ну и ну! — удивился я. — Что же там за ведьма такая? Пойдем поглядим. — И мы вместе направились к дому старухи.
Легко раненные в утреннем бою, солдаты расположились во дворе и грелись под теплым апрельским солнцем. Мы с Али поднялись по ступенькам на крыльцо. Когда сержант открыл дверь прихожей, откуда-то сверху раздался такой громкий крик, что я вздрогнул.
— Видите, товарищ лейтенант, мы только двери открываем, еще к спальне не подошли, а она уже так орет. Знаете, как она завопит, когда мы войдем… Я остановился, Сарыджалы тоже.
— Кажется, тут у нас ничего не выйдет. Придется искать другое место.
— Потерпи, сержант, рано отступать. Посмотрим, что там за пугало.
Не обращая внимания на крики старухи, я направился к спальне. Услышав шаги, старуха стала кричать еще громче. Голос у нее был резкий, визгливый и неприятно резал слух. Но что она кричала? Даже говоривший немного по-немецки старшина Папков и тот ничего не мог разобрать.
— Не понимаю ее слов, товарищ лейтенант. Ну да что обращать на нее внимание, пусть себе кричит сколько влезет. Может, ей нравится собственный голос.
Я открыл дверь спальни и заглянул в нее. Возле окна рядом с кроватями лежала на ручной тележке старая, дряхлая женщина. Лицо у нее было худое, бледное, все в морщинах, волосы совершенно седые. Она столько кричала, что охрипла.
Не обращая внимания на вопли, я подошел к ней. На вид старухе можно было дать все девяносто. Годы высушили ее до предела, лишили возможности двигаться, превратили в высохший живой комок, приковали к постели. Тележка длиной немногим больше метра, шириной и того меньше стала последним ее пристанищем. Оставшиеся до кончины дни старухе предстояло провести на ней. Мы не знали, кто из потомков старухи жил в этом доме — сын ли, дочь, внуки, — но удивляло, почему, когда они бежали, оставили ее здесь. Хоть и доживала она свои последние дни, она ведь была матерью или бабушкой, и кому известно, сколько детей родила и вырастила…