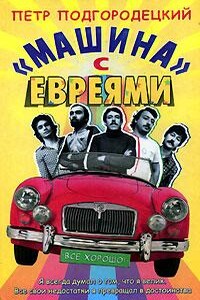Русские идут! Заметки путешественника | страница 50
После каждого концерта, как правило, проводился банкет. Иногда все собирались за одним столом: Кобзон с генералами и полковниками, а мы с офицерами рангом пониже. В отдельных случаях, когда артиста принимало высшее начальство, его «отсекали» и уводили в отдельный зал. Что уж там было, я не знаю, но кормили и поили от души. Даже нам, грешным, перепадали иногда крохи с барского стола в виде икры черной, икры красной, крабов и осетрины с семгой. Все это запивалось хорошими дозами тогда еще не испортившегося, как в девяностые годы, немецкого шнапса «Доппелькорн». Забегая вперед, отмечу, что во время визитов в ГДР с «Машиной времени» нам удалось познакомиться с новым изделием восточногерманских синтетиков-химиков – водкой с ласковым и нежным названием «Прелестная». Ее не смогли пить неразбавленной даже наши рабочие, хотя они – люди закаленные. Да и кто сможет в здравом уме глотать жидкость крепостью в 82!!! градуса, причем с характерным запахом ацетона? Правда, грузчиков к концу поездки все же сблизило с «Прелестной» то, что литр этого напитка стоил около десяти марок. Но, на мой взгляд, лучше обычный спирт купить, развести под руководством Валеры Ефремова – выпускника химфака МГУ – и выпить, что мы и делали. Наши гастроли в советские времена, как правило, привязывались к каким-либо праздникам: 9 мая, 23 февраля, 7 ноября. И в «красный день» наступал апофеоз. Самый большой зал, самый длинный концерт и, конечно, самый обширный и разнообразный банкет. Солдатики тоже не страдали. Их и так кормили вполне прилично, заграница все-таки, а в праздник и дополнительные порции масла, и яйца, и котлеты, и пироги, и пирожные… В общем, праздник желудка – это тоже праздник!
Группы советских войск располагались в те времена не только в Германии. С Кобзоном мне удалось посетить и дружественную Монголию. Если бы не он, я, по всей видимости, никогда туда и не попал бы. А так, сподобился.
Вся Монголия – это сплошная степь. Есть только один город, построенный, как сразу понятно, советскими архитекторами и советскими же рабочими, – Улан-Батор (не путать с Улан-Удэ и Сухэ-Батором). А дальше – степь да степь кругом. Дорог в нормальном понимании этого слова не существовало вовсе. Можно было лишь увидеть какие-нибудь следы, типа «кто-то когда-то куда-то проезжал». Траки эти то появлялись, то исчезали, то сходились, то расходились, а то и вовсе пересекались друг с другом. Куда ехать, нам было совершенно непонятно. Выезд в степь – это все равно, что выход в открытое море – до горизонта один и тот же пейзаж, куда ни глянь. И как наши солдаты-водители находили дорогу – для меня до сих пор загадка. Никаких навигаторов тогда не существовало, да и компасами они, похоже, не пользовались. А так, едешь-едешь по унылой степи часа четыре и вдруг видишь: вдалеке что-то виднеется. Ага! Бетонный забор. Значит, воинская часть уже рядом. Хотя зачем там заборы, тоже было непонятно: убежать в тех местах невозможно, местного населения – не видать, в «самоволку» ходить – некуда.