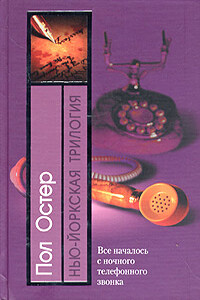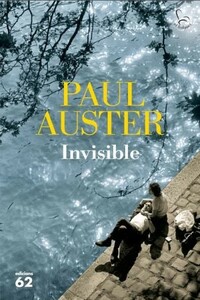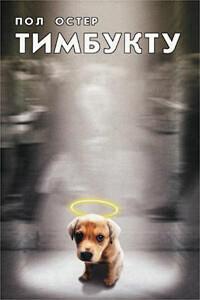Левиафан | страница 33
Она жила в двухэтажной квартире на Дуэйн-стрит, неподалеку от Уоррика, где снимал комнату я, и после той вечеринки мы возвращались в одном такси к себе в Манхэттен. Так начался наш постельный союз, который продолжался около двух лет. Подчеркивая с медицинской точностью характер наших отношений, я не хочу сказать, что, помимо плотских утех, нас вовсе ничего не связывало. Просто в этих отношениях не было ни романтики, ни сентиментальных иллюзий, и после той первой совместно проведенной ночи мало что менялось. Мария не жаждала привязанности, столь желанной для большинства людей, и любовь в традиционном смысле была ей чужда, находясь как бы вне сферы ее интересов. Я же, с учетом моего тогдашнего состояния, с готовностью принял ее правила игры. Оставаясь абсолютно независимыми, мы виделись от случая к случаю и не заявляли друг на друга никаких прав. При всем при том нас связывала настоящая близость, и такого у меня не было больше ни с кем, ни до, ни после. Впрочем, не сразу. Поначалу она меня немного пугала, даже казалась извращенкой (что придавало пикантности нашим первым встречам), но со временем я понял: все дело в ее эксцентричности, в непредсказуемости человека, живущего по своим собственным законам. Любой опыт систематизировался, превращаясь в самодостаточное приключение со своими рисками и ограничениями, и каждое составляло отдельную категорию. Так я попал в категорию «секс». В первую же ночь она назначила меня своим партнером в постели, и эту функцию я вьшолнял до самого конца. В ее мире причудливых идей то был один из многочисленных ритуалов, однако не скрою, я с удовольствием играл уготованную мне роль и, видит бог, не жаловался.
Мария была художником, но то, что она делала, выходило за рамки искусства в общепринятом понимании. Одни называли ее фотографом, другие концептуалистом, а кто-то считал писательницей; думаю, ошибались все, ибо она не подпадала ни под какое определение. Ее творения были слишком безумными, слишком вызывающими, слишком личными, чтобы принадлежать к какому-нибудь жанру или роду. Ею овладевала некая идея, и создавался артефакт, который в принципе можно было выставить в художественной галерее, но при этом она думала не об искусстве, а о том, как потрафить собственным прихотям, поскольку именно в этом видела высший смысл. Жизнь для нее всегда превалировала над «художествами», поэтому самые ее трудоемкие замыслы осуществлялись исключительно для себя, не предназначались для чужого взора.