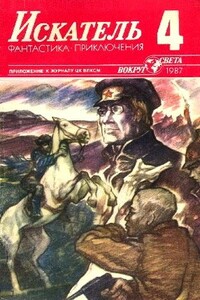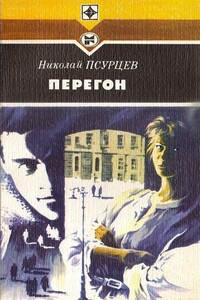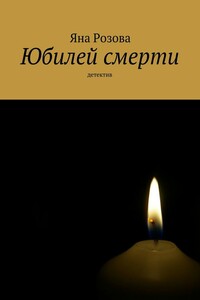Голодные призраки | страница 58
И все. И вся симпатия ее к нему начинает таять, как мороженое в ладони. Она сопротивляется, а симпатия тает. Природа берет свое. Женщина всегда рабыня. И роль госпожи ей инстинктивно чужда. Посмотрите вокруг и увидите, что я прав. Да вы и так знаете, что я прав. Это все знают. Знали и будут знать. Но иногда забывают. Я просто напомнил. Женщина – с удовольствием – спит не с теми, кто за ней ухаживает, а с теми, кто МУЖЧИНА. Все просто.
Есть и еще одна причина, по которой я никогда не знакомлюсь на улице, в лифте, в магазине, в аэропорту, в общественном транспорте, на рынке, у входа в общественный туалет, в поезде, в кинотеатре, на автостоянке, в такси, на стадионе, на вокзале, в буфете, в столовой, в самолете, на лестничной площадке, на почте, у мусоропровода, в сберкассе, в зоопарке, в гостиницах, в тире, в очереди, на лавочке, в исполкоме, в милиции, как было заметно, наверное, в бане, в которую я не хожу, в лесу, на выставках, в полях, на распродажах, в музеях… Очень часто в глазах женщин, на которых я дольше обычного задерживаю взгляд, я вижу испуг, не страх еще, а только испуг, легкий и едва заметный, только мне заметный и никому другому. Я вижу, как мелко вздрагивают глаза этих женщин и как они, женщины, пытаются отвернуться и не смотреть на меня, но все равно потом поворачиваются и смотрят, и опять отворачиваются, и опять поворачиваются и смотрят. И нет. симпатии в их глазах, нет. Есть ожидание опасности, ожидание удара. Есть боязнь за себя, внутренняя, едва различимая мною и редко различимая самой женщиной, боязнь, что вдруг она не сдержится и покорится моему взгляду, и, не в силах сопротивляться, пойдет за мной, кусая губы, кусая ногти, кусая локти, кусая пятки, – до крови, плача, рыдая, стучась лбом о ближайший твердый и немягкий предмет… Вот по этой причине я не знакомлюсь с девушками (женщинами) на улицах моего большого города, а также на улицах и других, менее больших городов, а также на улицах поселков городского типа, просто поселков, деревень, хуторов, также на просторах лесов, полей и рек.
С Никой Визиновой к тому времени, как я увидел ее на улице, когда вышел из здания УВД, я был уже знаком. Во всяком случае нас представили. Вернее, ее мне представили, а меня ей нет. Но для того, чтобы утверждать, что знакомство состоялось, этого было достаточно. Я теперь для нее не просто первый встречный, уличный безликий прохожий, а человек, которого она видела, на которого внимательно смотрела, которого изучала пристально и которому даже улыбалась. Она, конечно, себе тогда перед дверью улыбнулась, я это понял, но вместе с тем, а почему бы и не предположить, что она улыбнулась все-таки мне, ведь в тот момент она смотрела на меня, на меня. А вдруг она улыбнулась мне? А вдруг. Я остановился посреди тротуара, когда подумал, о чем подумал, и подумал о том, что я о ней думаю, мать ее, и всерьез думаю, забыв о том, что я всегда, мать мою, плюю, тьфу, тьфу, тьфу на серьезные мысли, я их терпеть не могу, я их ненавижу, мать их. (Интересно, а есть ли у них мать? Наверное, нет. Отец есть, это точно, так что, отца их! Ха, ха.) Они утомительны и бесполезны, а значит вредны. И тем не менее, будучи убежденным, что они утомительны, бесполезны, а значит вредны, убежденным до такой степени, что это убеждение стало частью моего организма, я все-таки – вопреки всему ясному и неотносительному – всерьез думал о женщине по имени Ника Визинова. Мать ее!