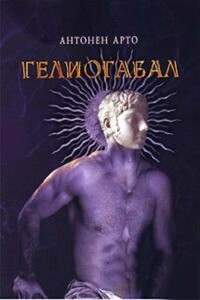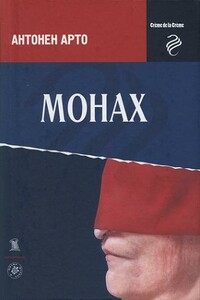Театр и его Двойник | страница 94
Странный ужас охватывает нас при взгляде на эти механические существа, которые, кажется, не властны над собственными радостями и печалями, а подчинены испытанному ритуалу, как бы заданному высшим разумом. И, в конце концов, именно это впечатление высшей, заданной жизни поражает нас в этом спектакле, похожем на обмирщенный ритуал (un rite qu'on profanerait). В нем есть торжественность священного ритуала;[187] иератизм костюмов сообщает каждому актеру как бы двойное тело, двойные члены; завернутый в свой костюм актер похож скорее на свое собственное изображение. Здесь живет, кроме того, медленный дробный ритм — музыка крайне зависимая, неровная и хрупкая, где, кажется, хрустят драгоценные металлы, вырываются на свободу водные потоки или шествуют в траве толпы насекомых, где схвачен даже шорох света, где звук сгущенного одиночества напоминает полет кристаллов и т. д. и т. п.
Впрочем, все эти звуки связаны с определенными движениями, они являются как бы естественным завершением жестов, имеющих ту же природу; и все это с таким чувством музыкального соответствия, что сознание в конце концов принуждено смешивать одно с другим и приписывать жестикуляции артистов звуковые качества оркестра, и наоборот.[188]
Впечатление нечеловеческого, божественного, какого-то чудесного откровения исходит и от изысканной красоты женских причесок: эти расположенные рядами светящиеся круги, образованные комбинациями перьев и разноцветного жемчуга, столь великолепны по краскам, что в сочетании воспринимаются именно как откровение; их крап ритмично вздрагивает, как бы духовно отвечая дрожанию тела. Есть и другие прически, наподобие жреческих, в форме тиары, украшенные сверху султанами жестких цветов, которые по окраске парами противостоят друг другу и странным образом гармонируют.
Этот пронзительный ансамбль, с разрывами ракет, побегами, увертками, обходными маневрами — на всех уровнях внешнего и внутреннего восприятия, составляет высшую идею театра, которая, кажется нам, сохранена в веках для того, чтобы научить нас, чем театр никогда не должен переставать быть. Впечатление это усиливается еще тем, что балийский спектакль, по видимости вполне народный и языческий, является как бы хлебом насущным для эстетических чувств этого народа.
На мой взгляд, помимо необыкновенной точности спектакля, еще более способно удивить и поразить нас представление материи как откровения; она, кажется, рассыпается в знаках, чтобы сообщить нам метафизическое тождество конкретного и абстрактного и научить нас этому