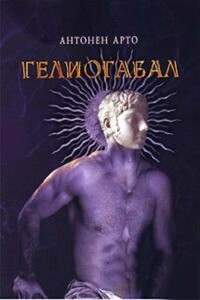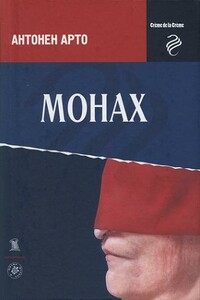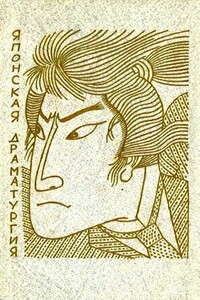Театр и его Двойник | страница 81
Любое из указанных средств выражения имеет свою внутреннюю поэзию и, кроме того, особую ироническую поэзию, связанную с тем, как именно оно сочетается с другими средствами выражения; последствия таких сочетаний, их взаимодействие и взаимное уничтожение разглядеть нетрудно.
Я вернусь чуть ниже к этой поэзии. Она может обрести всю свою силу только тогда, когда она конкретна, то есть когда она объективно способна породить что-то из самого факта своего активного присутствия на сцене, — когда, например, звук, как в Балийском театре, равноценен жесту, когда он перестает служить украшением или аккомпанементом мысли, а заставляет ее развиваться, направляет ее, разрушает или совершенно преображает.
Одна из форм поэзии в пространстве — помимо той, которая может быть создана, как и в других видах искусства, из комбинации линий, форм, красок, различных предметов в их первозданном состоянии, — принадлежит языку знаков. Я надеюсь когда-нибудь поговорить об этом новом аспекте чисто театрального языка, не поддающемся слову, о языке знаков, жестов и поз, имеющих идеографическое значение,[156] как в некоторых неизвращенных пантомимах.
Под «неизвращенной пантомимой» («pantomime поп pervertie») я понимаю Непосредственную Пантомиму (Pantomime Directe), когда жесты не изображают слова и части фраз (как в нашей старой европейской пантомиме с ее пятидесятилетней историей, являющейся просто деформацией немых сцен итальянской комедии),[157] а представляют идеи, настроения духа, состояния природы, и представляют их действенно и конкретно, то есть постоянно вызывая в сознании объекты или элементы природы, примерно так, как в знаках восточного языка представляют ночь, изображая дерево, на котором сидит птица, уже закрывшая один глаз и начинающая закрывать другой. Различные абстрактные идеи или настроения духа могут быть изображены с помощью бесчисленных символов Писания, например игольного ушка, через которое не может пройти верблюд.[158]
Ясно, что эти знаки являются истинными иероглифами, и человек, в той мере, в какой он участвует в их образовании, оказывается всего лишь одной из форм, наравне с другими, но благодаря своей двойственной природе он сообщает ей особую значимость.
Язык, напоминающий образы сильной натуральной (или идеалистической) поэзии, дает удовлетворительное представление о том, какой могла бы стать в театре поэзия пространства, независимо от обычного языка.
Что бы ни говорили о таком языке и его поэзии, я вижу, что в нашем театре, живущем под непререкаемой властью слова, язык знаков и мимики, эта бессловесная пантомима, эти позы, эти жесты в пространстве, эти интонации — короче, все, что я считаю специфически театральным в театре, все эти элементы, когда они существуют вне текста, всеми считаются чем-то второстепенным для театра, их пренебрежительно называют «ремеслом» и путают с тем, что называют режиссурой (mise en scene) или «постановкой» («realisation») спектакля, — хорошо еще, если слово «режиссура» не связывают с мыслью о внешней художественной пышности, имеющей отношение исключительно к костюмам, освещению и декорациям.