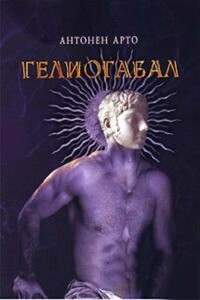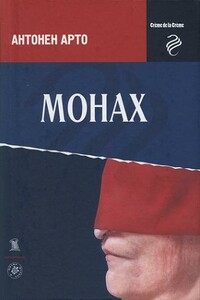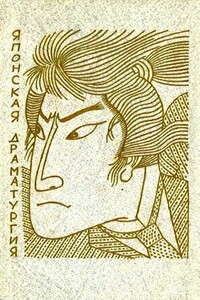Театр и его Двойник | страница 71
Последние оставшиеся в живых теряют голову от отчаяния: сын, прежде послушный и благородный, убивает своего отца; человек сдержанный обесчещивает своего ближнего; сластолюбивый делается непорочным. Скупой пригоршнями выбрасывает из окна свое золото. Воинственный герой поджигает город, который когда-то спасал, жертвуя своей жизнью. Франт наряжается и идет гулять на бойню. Мысль о бесконтрольности или близкой смерти сама по себе недостаточна, чтобы объяснить столь нелепые и немотивированные поступки людей, не предполагающих, что смерть может чему-то положить конец. А как объяснить вспышку эротической лихорадки у тех, кто оправился от чумы: вместо того чтобы спасаться бегством, они остаются на месте, пытаясь сорвать предосудительное удовольствие, воспользовавшись умирающими и даже мертвецами, полураздавленными под горой трупов, куда их бросил случай.
Но если нужна большая беда, чтобы выявить столь безудержное своеволие, и если эту беду называют чумой, то, может быть, удастся определить, что значит это своеволие для нашей тотальной личности (notre personnalite totale).[133] Состояние больного чумой, который умирает с непораженными тканями, неся на себе клеймо абсолютного и почти абстрактного зла, совпадает с состоянием актера, целиком подвластного контролю потрясающих его чувств, без всякой на то выгоды для обыденной жизни. Во внешнем облике актера и больного чумой все говорит о том, что жизнь отреагировала на пароксизм, но тем не менее ничего не произошло.
Есть нечто сходное между больным чумой, который с криком бежит вслед за своими видениями, и актером, гоняющимся за собственными чувствами. Между человеком, живущим среди созданных им образов, которые в иных обстоятельствах никогда бы не пришли ему в голову, но здесь, среди мертвецов и безумцев, он их создает, — так вот, между этим человеком и поэтом, всегда невовремя рождающим своих героев для столь же косной и безумной публики, существуют и другие аналогии, которые вскрывают причины очень важных явлений и позволяют рассматривать действие театра, как и действие чумы, в плане подлинной эпидемии.
Актеру, захваченному неистовой яростью этой силы, приходится проявить гораздо больше доблести, чтобы не сделать преступления, чем убийце — храбрости, чтобы его совершить. Воздействие сценического чувства, с его немотивированностью, оказывается бесконечно более ценным, чем воздействие чувства реального.
Ярость убийцы истощается, но ярость трагического актера остается пребывать в замкнутом и чистом кольце. Ярость убийцы сделала свое дело, она разряжается и теряет контакт с силой, которая ее толкала, но более уже никогда не станет поддерживать. Она принимает форму ярости актера, отрицающей себя по мере своего высвобождения и слияния с космосом.