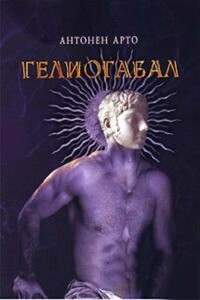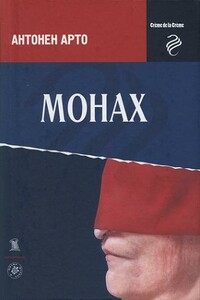Театр и его Двойник | страница 151
Это значит, что писатели того времени предчувствовали, что существует знание оккультных глубин Человека, утраченное с давних Времен.
Сюрреализм высвободил жизнь, он в физическом смысле избавил ее от прилива крови, он позволил тоненькой струйке электричества оживлять камни и безжизненные отложения.
Распавшаяся жизнь строится заново как реакция на хаотическую анархию, навязанную видимым предметам.
Сюрреалистический мир конкретен — конкретен для того, чтобы его нельзя было спутать с другим.
Все, что абстрактно, все, что не нарушает покоя трагизмом или буффонадой, все, что не выявляет органического состояния, что не является физическим выпотеванием духовного беспокойства, исходит не из этого движения. Сюрреализм изобрел автоматическое письмо, некую интоксикацию духа, рука, освободившись от мозга, движется туда, куда ведет ее перо; во власти странных чар она движет пером так, что оно оживает; рука же, утратившая всякую связь с логикой и заново таким образом воссозданная, вновь вступает в контакт с бессознательным.[308]
Этим чудом она отрицает глупое школярское противоречие между духом и материей, между материей и духом.
Всякий раз, когда прикасаются к жизни, она откликается сновидениями и призраками. Это значит, что область бессознательного была подвергнута зондированию со стороны какого-то объекта. Бессознательное отдает то, что оно хранило.
Когда женщина зачала, она видит сны, даже не зная, что зачала. Когда мужчина ранен или вскоре заболеет, или когда у него наступает агония, он видит сны. Помимо сновидений отдельного человека существуют групповые сновидения и сновидения целой страны.
Я не знаю, все ли мы, сюрреалисты, почувствовали, что в наших сновидениях мы выпускаем на волю некую общую обиду, боль, причиненную жизнью.
Помимо пристрастия к сновидениям, помимо чувства ненависти к реальности, Сюрреализм имел пристрастие к благородству, навязчивую идею чистоты.
«Самый чистый, самый отчаявшийся среди нас» — так обычно говорили о том или ином из сюрреалистов.
Не все ли равно, что этот чистый огонь сжигал лишь его одного. Он искренне хотел быть чистым. И эту чистоту он искал повсюду: в любви, в духе, в сексе.
«Отец, — говорит Сент-Ив д'Альвейдр в „Ключах Востока“, — Отец, надо признать, есть разрушитель».[309] Безнадежный дух суровости, уходящий для размышлений в приподнятую над природой зону, воспринимает Отца как своего врага. Мифы о Тантале, о Мегере, об Атрее хранят в иносказательных выражениях ту тайну, ту грань человеческой истины, которой люди очень желают удовлетвориться.