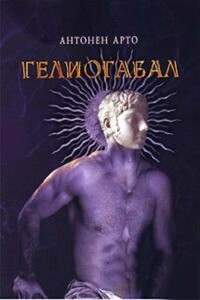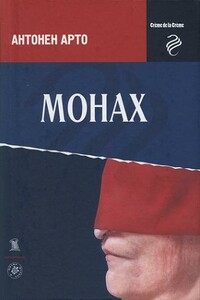Театр и его Двойник | страница 125
Одним словом, высокая идея театра могла бы примирить нас со Становлением в философском понимании этого слова, подсказать нам на примере всевозможных объективных ситуаций трудноуловимую мысль об изменении и превращении идей в вещи, а не чувств в слова.
По-видимому, как раз из такого желания театр и вырос. Человек со своими интересами должен появляться на сцене только в той мере и в тот момент, когда он магнетически встречается со своей судьбой. Не для того, чтобы претерпевать ее, а для того, чтобы померяться с ней силой.
Письмо второе[250]
Ж[ану] П[олану]
Париж, 28 сентября 1932 г.
Дорогой друг,
Я не думаю, что, прочитав однажды мой Манифест, Вы стали бы по-прежнему настаивать на своих возражениях, — значит, или Вы его совсем не читали, или прочитали плохо. Мои спектакли не имеют ничего общего с импровизациями Копо.[251] Как бы глубоко они ни были погружены в конкретное и внешнее, как бы ни искали опоры в раскрытой природе, а не в запертых тайниках мозга, они от этого отнюдь не становятся подвластны капризам вдохновения актера, не затронутого культурой и рефлексией, тем более актера современного, который, отойдя от текста, погружается — и больше знать ничего не хочет. Я не собираюсь отдавать на волю случая судьбу моих спектаклей и судьбу театра. Нет.
На самом деле произойдет вот что. Речь пойдет не больше не меньше как об изменении исходной точки художественного творчества и ниспровержении привычных законов театра. Речь пойдет о том, чтобы заменить обычный разговорный язык качественно иным языком, равноценным языку слов по своим выразительным способностям, но истоки которого были бы глубже, чем истоки мысли.
Грамматику этого нового языка надо еще составить. Основной материал, сущность его и даже, если угодно, альфа и омега, — это жест. Он скорее вырастает из необходимости. слова, а не из слова уже сотворенного. Встречая в слове тупик, он стихийно возвращается к жесту. Он бегло касается некоторых законов внешнего выражения человеческого начала. Он погружается в необходимость. Он поэтически заново проделывает тот путь, который привел к созданию языка. Он сознает многосложность мира, разбуженного языком, и пробует оживить его во всей целостности. Он выясняет устойчивые внутренние связи в различных слоях одного слога, которые пропадают, как только слог на них замкнется. Все эти операции, сделавшие слово Виновником пожара, от которого, будто щитом, охраняет нас Огонь-Отец, став в облике Юпитера уменьшенной латинской моделью греческого Зевса-Отца, — все эти операции он проделывает заново, пользуясь криком, звукоподражанием, знаком, позой, медленными, сильными и страстными нервными модуляциями, ступень за ступенью, термин за термином. Я считаю принципиально важным, что слова не хотят выговаривать всего; что по своей природе и своему характеру, установившемуся раз и навсегда, они останавливаются и парализуют мысль, лишая ее возможности развития. Под развитием я понимаю конкретные свойства протяженности, поскольку мы находимся в конкретном и протяженном мире. Итак, этот язык способен сжимать и использовать протяженность, то есть пространство, и, используя его, заставлять его говорить; я беру протяженные предметы и вещи в качестве образов и слов, я соединяю их и привожу к соответствию по законам символизма