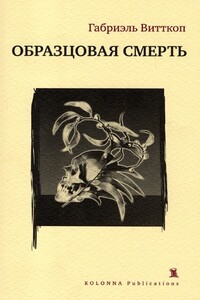Сон разума | страница 40
X. роется в ящике стола, не находя того, что ищет, но ему на глаза попадается старая тетрадь. Он читает:
«Вероятно, моей жизнью всегда управляли сны. Они способны добиться от меня чего угодно, и даже в те времена я отдавался им безоговорочно. Поэтому для меня вполне естественно стремиться к одиночеству. Сейчас оно ведет меня к ним, словно за руку. Закрыть глаза — значит открыть дверь».
X. смотрит на свой стол, заваленный карточками, — забывчивый педант, он делает на них сотни заметок, — смотрит на хрустальное пресс-папье, сломавшуюся лампу, и вдруг ему кажется, будто он начинает постигать собственную судьбу: по контрасту, как негативное изображение. Темные квартиры заполняются матовым светом, над световыми полями разливаются серые чернила, и, пока ураганный рокот — или слабый птичий крик — поглощается тишиной, X. встречает самого себя с безграничным изумлением. Тем не менее, он всегда знал, что ни сам он, ни мир не могут измениться. Что нужно лишь потихоньку глодать свою пенсию, жить тише воды, коротать время за переводом «Элегий» Архилоха, гоняться за сновидениями и смиряться с этими завываниями бури глубоко внутри и этим тихим плачем — там же. Жить, как говорится, достойно. Возвести вокруг себя поучительную стену с окном для выхода.
Ранимый человек обязан избегать любого шума.
Впечатлительные люди предпочитают блеклую одежду.
Это крысиная маска, которую мечтатель вынужден носить на сатурналиях.
На сатурналиях жрец сер, но прозрачен.
Она не в силах привыкнуть к своему адскому глазу.
Гулкость дворца вынуждала нас говорить тихо, и шепот, что сродни трансгрессии, естественно, придавал нашим речам тайный, святотатственный оттенок.
Женщина-белоглазка протягивала ко мне руку, навязывая игры, так непохожие на те, которым я предавался в лабиринте! Развлечения мальчиков и девочек были не отвратительными и не жестокими, а просто животными, как мы сами: веселые научные экспедиции к различным органам, что напоминали об изобилии и даровом празднике. Игры же, навязанные Женщиной-белоглазкой, были постыдны и доводили меня до слез. Мое смятение обуславливалось тем, что она — взрослая и обладает всеми признаками, невыразимо противными мне. В ее манипуляциях было что-то мучительное, и даже взрослый мужчина не согласился бы на них без омерзения. Приводить подробности тяжело даже теперь, и я скажу лишь, что она угрожала кастрировать меня ножом, с которым почти никогда не расставалась. От страха я был на грани агонии. Ей также нравилось задавать неразрешимые вопросы, непонятные шарады, и наказывать, если я не мог на них ответить, — упиваясь моими слезами и отчаянием. Я мечтал умереть и думал, что у меня хватит на это смелости, а вот не приходить больше во дворец было куда сложнее.