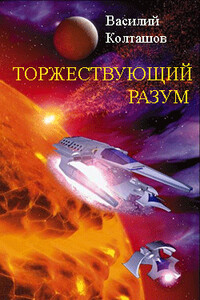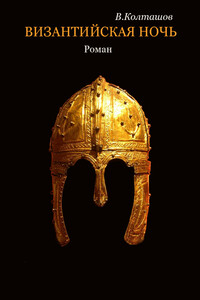Диалектическая психология | страница 38
Кризис, это всегда приближение краха, но еще не сам крах. Он детище обострения противоречий, готовых вот-вот разрешиться, взорвать мир переменами, новыми веяниями, движением. Конечно, жить на вершине вулкана не легко, даже если известно, что его извержение будет означать не гибель, но спасение. Индивидуальные отношения людей, которые как кажется, приносят максимум страданий человеку, на самом деле только выражают те противоречия, которые определят характер отношения одной личности к другой. Другими словами, если мы переживаем душевный кризис из-за поведения кого-либо, то вина за это не просто лежит на человеке и его поступках, но на той системе отношений, которая им движет, и которая непосредственно сталкивает нас в таких противоречиях. Индивидуально существуя неврозы, на деле представляют собой проблему не личности, но всего общества. Их исцеление, как громадного социального зла кризиса капитализма, должно начаться не с миллионкратного увеличения числа психотерапевтов, а с ампутации самих причин рождающих муки человеческой души. Буржуазная мораль - лицемерная выразительница интересов и потребностей капитала, должна быть беспощадно искоренена, и ее выкорчевывание должно начаться уже сейчас. Необходимо приложить максимум усилий к тому, чтобы избавить себя и помочь освободиться другим от излишних нравственных преград. При этом необходимо усвоить одну простую мысль, многие барьеры буржуазной морали существуют не только в подсознательном, но и осознаваемом виде, и бороться с ними нужно и там и там. Вот что пишет о понимании и реализации этой проблемы Вильгельм Райх: «Так я усвоил важное правило, в соответствии с которым не все неосознанное является асоциальным и не все, что сознательно, соответствует социальным нормам. Существуют в высшей степени ценные, а с культурной точки зрения даже решающие, желания и побуждения, которые приходится вытеснять, принимая во внимание условия существования. Есть и крайне асоциальные виды деятельности, которым общество воздает честь и хвалу. Хуже всего обстояло дело с кандидатами на должности священников, которые всегда испытывали тяжелый конфликт между сексуальностью и характером своей профессиональной подготовки. Я решил больше не принимать на лечение священников…
Мои понятия о соотношении душевной структуры с существующим общественным строем становились все более запутанными. Изменение состояния больных в соответствии с данным моральным порядком нельзя было оценить однозначно ни отрицательно, ни положительно. Казалось, что новая душевная структура следовала законам, которые не имели ничего общего с привычными моральными требованиями и воззрениями. Она следовала законам, новым для меня, о существовании которых я прежде и не подозревал. Целостная картина, вырисовывавшаяся в итоге, соответствовала другому типу социального устройства. В это устройство вписывались лучшие принципы официальной морали. В соответствии с ними, например, нельзя насиловать женщин и соблазнять детей. Одновременно выявились и весьма ценные в социальном отношении моральные стереотипы, резко противоречившие привычным воззрениям. К их числу относились, например, представления о малой ценности сохранения целомудрия под действием принуждения извне или сохранения верности по обязанности. Представление о том, что объятие с партнером против его воли не приносит удовлетворения, что оно отвратительно, казалось бесспорным, в том числе с точки зрения самой строгой морали, но противоречило требованию о выполнении «супружеских обязанностей», защищенному законом.