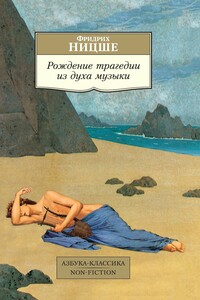Странник и его тень | страница 31
Идея Фауста. — Ничтожная швея обольщена и становится несчастной; виновник несчастия — великий ученый всех четырех факультетов. Да разве это могло произойти естественным путем? Нет, разумеется, нет! Без помощи черта великий ученый был бы не в состоянии совершить этого. — Действительно ли это величайшая немецкая "трагическая идея", как полагают немцы? Но для Гете и такая идея казалась чересчур страшной. Его мягкое сердце побудило его перенести после смерти молоденькую швейку, "эту прекрасную, единственный раз забывшуюся душу", поблизости к святым. Даже великого ученого — "прекрасного человека" с "туманными стремлениями", и того удалось ему вовремя переселить на небо, сыгравши в решительный момент злую шутку с дьяволом; там на небе любящие сердца снова встречаются. — Гете выразился как-то, что его натура слишком миролюбива для настоящей трагедии.
Существуют ли немецкие классики? — Сент-Бев заметил однажды, что слово классик как-то странно звучит в некоторых литературах. Ну, кто может, например, говорить о немецких классиках?.. Что скажут на это наши немецкие книгопродавцы, которые готовы к имеющимся уже налицо пятидесяти немецким классикам, которых мы должны уже признавать, прибавить еще пятьдесят новых? Кажется, достаточно пролежать тридцать лет мертвым в могиле, чтобы потом вдруг совершенно неожиданно при трубном звуке воскреснуть в звании классика! И это в то время, когда у народа, имеющего шесть великих родоначальников литературы, пятеро уже устарели или на пути к этому; причем этот народ в наше время даже не считает нужным стыдиться этого, так как вышеупомянутые пятеро должны были отступить перед современными силами. — Взвесьте это по справедливости! Из числа их, как я уже раньше упоминал, надо исключить Гете. Гете принадлежит к литературе более высокой, чем национальные литературы; поэтому нельзя говорить, что величие его еще живет в народе или находится в периоде возникновения или уже устарело. Он жил и живет для немногих; для большинства он не что иное, как труба тщеславия, в которую время от времени трубят на немецкой территории. Гете не только прекрасный и великий человек, Гете — целая культура; в немецкой истории он представляет случайное явление. Кто, напр., из немецких политиков за последние семьдесят лет в состоянии был привести хотя бы одну цитату из Гете? Тогда как отрывки из Шиллера и даже отрывочки из Лессинга все же были в большом употреблении! Клопшток самым почетным образом устарел еще при жизни и притом так основательно, что никто вплоть до настоящего дня не относился серьезно к его глубокомысленному сочинению последних лет — Республике ученых. Несчастие Гердера состояло в том, что его сочинения казались или слишком новыми или слишком устаревшими. Для утонченных и сильных умов (как, напр., Лихтенберг) даже главное сочинение Гердера — его "Мысли к истории человечества" — казалось устаревшим при первом его появлении. Виланд, который умел широко жить и давал жить другим, поспешил как умный человек умереть раньше, чем прекратилось его влияние. Лессинг, пожалуй, живет еще и поныне, но только среди юных, самых юных ученых. Шиллер же из рук юношей перешел в руки мальчишек, всякого рода немецких мальчишек. Первым признаком того, что книга устарела, служит то, что она делается достоянием все более и более незрелых возрастов!.. Но что же вытеснило этих пятерых отцов литературы, что привело к тому, что образованные и трудолюбивые люди уже не читают их? Более развитой вкус, большее количество знаний, большее уважение к истинному и действительному, т. е. те самые добродетели, которые насаждали в Германии эти пятеро лиц (а также десять или двадцать других менее громких имен) и которые, разросшись густым лесом, бросают на их могилы не только тень уважения, но и тень забвения. Однако классиков нельзя считать насаждателями интеллектуальных и литературных добродетелей; они скорее завершители, так сказать, остающиеся высшие светлые точки добродетелей, существовавших в народе, когда последний погибает, остающиеся потому, что они легче, свободнее, чище народа. Но пусть погружаются народы в мрак забвения — для человечества еще возможно высокое будущее, пока Европа продолжает жить в тридцати очень старых, но никогда не стареющих книгах — своих классиков.