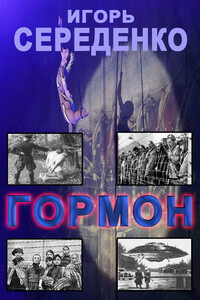Двойное отражение, или Эпизоды иной жизни Александра Грибоедова | страница 43
Человек этот был невысок ростом, сух фигурою, желт лицом. Звали человека Александр Сергеевич Грибоедов, и его знала вся Россия как автора разошедшейся некогда в списках комедии «Горе от ума». Комедии прочили бессмертие, автору – тоже. Самому ему, впрочем, никакого дела не было ни до похвал, ни до ругани; что же касается бессмертия, то и к сему щекотливому предмету он относился без любопытства. Растасканная на поговорки, словечки, размноженная по всей стране комедия давно уже стала безразлична автору, в глубине души он не считал ее ни своевременной, ни удачной. К тому же прошло невесть сколько времени.
Сжегши с вечера все бумаги, какие смог отыскать в ящиках бюро и старых сундуках, Грибоедов половину этой ночи провел у письменного стола. Он не написал ни единого слова, только сидел над чистым листом, обхватив голову руками. Перед глазами все еще стояла картина того, как огонь в камине медленно поглощает пожелтевшую бумагу, как бумага корчится и чернеет в огне, как сургучи и воск старых печатей разжижаются в кровавые капли и шипя стекают на горящие поленья. По временам ему казалось, что такой финал и есть в высшей степени закономерный и справедливый финал любых писаний, ибо – для чего писать, как не для того, чтобы стала бумага пищею древней всепоглощающей стихии?
Он сжигал старые письма и записи, черновики незаконченного и отвергнутого, полагая, что тем самым очищает свою память от сора, нанесенного за много лет. Прав ли он оказался в этой надежде – пока что и сам не знал. Во всяком случае, в доме не осталось ни единого листа бумаги – за исключением того, что лежал на столе.
Сейчас он стоял у распахнутого окна и чувствовал некое оцепенение. Желтые сухие пальцы вросли в подоконник, желтое лицо – он видел отражение в створке окна – застыло, превратилось в неживую маску, и это ощущение усиливалось металлическим блеском оправы очков. Весь облик его стал хрупким – столь же хрупким, что и ночная прозрачная тишина. Но стоило с улицы донестись какому-то слабому звуку – то ли шагам ночного бродяги, то ли порыву стихшего было ветра, – как оцепенение оставило Грибоедова, руки его расслабились, черты лица смягчились, он словно погрузился на мгновение в прохладную белесую синеву. Непривычная, отрешенно-рассеянная улыбка проявилась на бескровных губах. Он осторожно закрыл окно и повернулся.
Улыбка замерла и исчезла, едва он оторвался от окна, глаза похолодели, взгляд замерз.
Его все чаще раздражала скудная обстановка рабочей комнаты. Грибоедову не раз приходило в голову, что стороннему взгляду эта скудость покажется нарочитой, выставленной напоказ. Собственно, в этом его упрекнули однажды. Странно: он прекрасно помнил упрек и насмешливый голос, бросивший его, а вот кто сказал, кто упрекнул – не помнил. Ни лица, ни имени. Впрочем, не все ли равно?