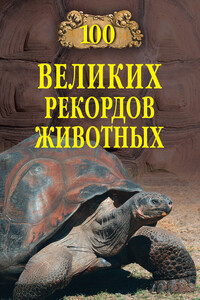Большая Советская Энциклопедия (ПС) | страница 47
На рубеже 19—20 вв. в П. назревает кризис, который означал ломку старых понятий. Терпит крах представление о сознании как совокупности непосредственно переживаемых субъектом явлений. Акцент переносится на ориентацию человека в окружающей среде, на скрытые от сознания факторы его поведения. Хотя ещё пользовался влиянием взгляд, согласно которому область П. ограничена «внутренним зрением» индивида (Э. Титченер, США; Т. Липпс, Германия; Дж. Стоут, Великобритания; Г. И. Челпанов, Россия, и др.), складывались новые концепции и подходы. Учение Павлова о высшей нервной деятельности способствовало разработке кардинальных проблем П. поведения. Главным течением американской П. становится бихевиоризм, согласно которому П. должна изучать только внешние, телесные реакции на стимулы. Динамика этих реакций живого организма мыслилась как слепой поиск, случайно ведущий к успешному действию, закрепляемому повторением (метод «проб и ошибок»). Этой схемой руководствовался уже один из пионеров экспериментального психологического изучения поведения животных — Э. Торндайк (1898). В дальнейшем она легла в основу бихевиоризма, программные установки которого выразил Дж. Уотсон (1913). Дав мощный импульс экспериментальным исследованиям по проблеме научения и укрепив объективный подход к поведению, бихевиоризм стал одним из факторов прогресса П. Но в борьбе с субъективной П. он сам находился под влиянием выдвинутых ею воззрений на сознание и поэтому потребовал исключить из научной П. все понятия о психических явлениях, с тем чтобы найти для них поведенческие эквиваленты (логическое мышление — реакции речевого аппарата, чувство — реакции внутренних органов и т.д.). Отрицая отражательную природу психики и игнорируя её нейрофизиологические механизмы, бихевиоризм оказался в методологическом тупике, что в дальнейшем привело к его распаду.
Другой влиятельной школой выступила гештальтпсихология (М. Вертхеймер, В. Кёлер, К. Левин, К. Коффка, Германия), экспериментальным объектом которой явился целостный и структурный характер психической деятельности, несовместимый с «атомистическим» взглядом на сознание и поведение. Открыв важные психологические феномены и зависимости, эта школа не смогла, однако, дать им адекватную теоретическую интерпретацию.
На рубеже 19—20 вв. сложился и основанный австрийским врачом З. Фрейдом психоанализ. Его предпосылками служили достижения патопсихологии (А. Льебо, И. Бернхейм, Ж. Шарко, Франция), вскрывшие на клиническом материале несостоятельность традиционной трактовки мотивов поведения, выявившие роль неосознаваемой мотивации. Некоторые клинические материалы дали Фрейду повод к ложному выводу о предопределённости всех психических актов энергией сексуальных влечений, в связи с чем движущие силы человеческой деятельности предстали в ложном свете. Психоанализ выступил с претензией на объяснение не только индивидуально-психологических фактов, но и общественных явлений, истории цивилизации в целом. Попытки понять с идеалистических позиций зависимость психики человека от мира истории и культуры, от общественной жизни неотвратимо вели к дуализму, к концепции «двух психологий» (Вундт, В. Дильтей, Г. Риккерт, Германия), согласно которой П. не может быть единой наукой, поскольку будто бы естественнонаучный экспериментальный подход к психике в принципе не совместим с культурно-историческим. Психологи, выдвигавшие на первый план роль социальных факторов в регуляции человеческого поведения (М. Болдуин, Дж. Дьюи, Дж. Мид, США, и др.), также не смогли выработать продуктивный подход к социогенезу человеческой личности и её психических функций, поскольку саму социальность рассматривали как «чистое» общение вне предметной деятельности людей.