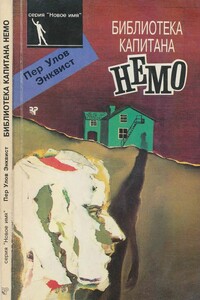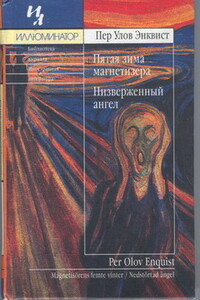Низверженный ангел | страница 10
Шофер, это был Марклин, остановился у строгальни и, обернувшись к пассажирам, спросил, не может ли кто ее проводить, но она не захотела.
Когда мне исполнилось шестнадцать, я впервые увидел посмертную карточку отца. Она лежала среди других фотографий, их я уже видел. Какие-то мне нравились, какие-то были непонятными. На одной карточке отец сидел на лужайке, перед ним стоял поднос с кофе, он в выходном шевиотовом костюме и белой рубашке, а в глазах - странно-легкомысленный блеск, который совсем не соответствовал тому, как я себе это представлял, что-то тут было не так, я про себя давно решил, что его сокровенное будет и моим сокровенным, и на фотографии что-то не сходилось. Когда он вечерами возвращался из леса домой, то садился писать стихи в блокноте; после его смерти блокнот сожгли, потому как стихи считались грехом. Пока все сходилось.
И вот вдруг, когда мне было шестнадцать, я увидел посмертную карточку.
В тех краях существовал обычай фотографировать лежавших в гробу покойников. Иногда фотографии вставляли в рамку и водружали на комод - своего рода горизонтальные портреты, катакомбы Вестерботтена. Но посмертной карточки отца я никогда не видел. И вот внезапно обнаружил ее в белом конверте.
Я никогда этого не забуду. Это был словно удар в челюсть. Я уставился на карточку, точно на меня напал столбняк, поскольку сперва не понял, кто на ней изображен. Я держал фотографию в руке, воображая, что вижу самого себя. Конечно, это я, никаких сомнений, один к одному, ошибка исключена. Каждая черточка моя. Наверняка это я. Одного только я не мог взять в толк: почему я лежу в гробу.
Потом я сообразил, что это мой отец.
Никогда не забуду тех секунд. Я впервые увидел самого себя. Мне было шестнадцать тогда, и пройдет тридцать лет, прежде чем я увижу себя во второй раз.
III
ПЕСНЯ О ШАХТЕРСКОЙ ЛАМПОЧКЕ
Мальчик смотрел на К., они шли, держась за руки, по больничному парку, точно мальчик был отцом, а К. - ребенком, и мальчик неотрывно смотрел на К. из глубины своего чудовищного страха, и его глаза говорили: ничего страшного. Я прощаю тебя.
Хотя должно было бы быть наоборот. Милосердие. Вот как все просто бывает.
Когда-то я считал, что история - это река, что все - река, величественно и спокойно несущая свои воды вперед, как необыкновенное повествование, в котором все неумолимо ведет вперед, к морю.
Но совершенно несовместимое, то, что дарит тебе самое тяжкое и труднодоступное озарение, вовсе не река, оно необязательно с неумолимостью ведет от одного к другому.