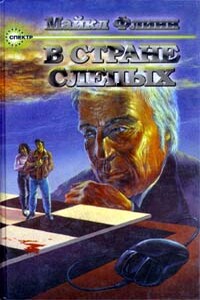1985 | страница 61
Огромная толпа стоит перед заводом телекранов. Со двора доносится грохот и звон осколков. Там топорами рубят аппараты. Странно — на лице у них нет гнева, только удовольствие и детская радость. Кто-то бросает телекран в стену.
— Вот вам за ненависть, вот за физзарядку! — кричит он. Экран с жалобным звоном разлетается вдребезги.
На Пиккадилли-Серкус люди смотрят представление кукольного театра. Одна кукла изображает Старшего Брата, другая — Старшую Сестру. Он пытается трахнуть ее в зад, но ничего не получается.
— Не сердись, дорогая, — жалобно кряхтит диктатор, — из-за этих государственных дел я окончательно стал импотентом.
— Ничего, Старший Брат! — кричит ему кто-то из публики. — Вот придет Голдстейн, он ей вдует!
Дикий хохот.
На другой стороне площади пляшут шотландцы в своих национальных костюмах, которые до сих пор были запрещены. Зрители восхищаются их юбками, которые теперь, вероятно, войдут в моду по всей Англии. Грустные звуки волынки плывут в воздухе.
К Вестминстерскому аббатству движется необычная процессия. Это больные, вырвавшиеся на волю из Лондонского сумасшедшего дома. Они волокут с собой врачей и сестер в смирительных рубашках.
— Они были плохие христиане, — говорит бывший больной, — теперь их надо заново окрестить. И он начинает поливать их из ведра.
— Между прочим, позвольте представиться, — обращается он ко мне. — Я Эммануэль Голдстейн.
Школьники бегут за огромным грузовиком, груженным игрушечными пулеметами и самолетами — до сих пор это были их любимые игрушки. Кто-то приподнимает решетку канализации, и милитаристские игрушки падают в колодец, а за ними — значки детской организации разведчиков. Подъезжает другой грузовик, и революционный комитет игрушечной фабрики преподносит детям три тысячи мишек и собачек со склада конфискованных игрушек.
На одном из мостов через Темзу слепой нищий поет под гитару старую песню о Джо Хилле. Около него большой лист бумаги с надписью: "Милостыню не принимаю".
Бывший Гайд-парк превратился в место политических развлечений. Не меньше четырех ораторов говорят одновременно. Они не столько агитируют, сколько препираются друг с другом. Рабочий-мусульманин требует введения многоженства; длинноволосый юноша ратует за всеобщую безработицу и разрешение любых наркотиков. Но громче всех кричит сотрудник полиции мыслей, который весь в слезах занимается самокритикой.
— Я был слепым орудием тирании!
Толпа смеется.
— Иди домой, папаша, — говорит ему студент. — Напейся пьян и скажи спасибо, что тебе больше не нужно убивать людей.