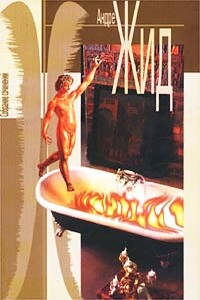Робер | страница 13
Другая мысль, к которой меня приводит констатация этой путаницы в датах, заключается в следующем: я писал, что Эвелине вздумалось заронить зерно вольнодумия в душу нашей дочери. Однако по здравом размышлении сегодня мне кажется, что именно вольнодумие Женевьевы, каким бы ребенком она в то время ни была, заразило душу ее матери. Женевьеве тогда было всего девять лет, но, заглядывая даже в самое далекое прошлое, я всегда ее вижу непокорной. Это она, непрестанно по любому поводу требуя объяснений, приучила свою мать искать и находить их, вместо того чтобы ответить на ее «почему» так, как полагается, так, как я сам ей отвечал: «Потому, что я тебе так говорю». Хочу сразу же добавить, что Густав, наоборот, с раннего детства проявлял почтительное послушание, соглашаясь со всем, что я ему говорил, никогда не ставя под сомнение мои слова. Было даже забавно слышать, как этот мальчик, когда мать пыталась посеять в нем сомнение и вызвать у него вопросы, простодушно, с уверенным видом отвечал ей: «А мне так папа сказал!» — подобно тому как я в ответ на беспокойную любознательность Эвелины приводил неопровержимые слова служителей Всевышнего.
Нельзя с уверенностью сказать, что Эвелина, узнававшая себя в дочери, не использовала в своих целях ее непокорство, с тем чтобы самой пойти по скользкому, опасному пути. Трудно даже сказать, толкала ли она ее на этот путь или, наоборот, та ее увлекала за собой — настолько между ними царило полное, как бы врожденное согласие. И если может возникнуть сомнение, что такой маленький ребенок (сейчас я говорю о Женевьеве) мог оказывать какое-то влияние на свою мать, то влияние двух моих друзей — доктора Маршана и художника Бургвайлсдорфа — было, конечно, бесспорным. Я об этом уже говорил, но считаю целесообразным к этому вернуться, ибо если до сих пор я в первую очередь отмечал вольнодумие Эвелины, то вначале ее неповиновение выражалось не в этой, а в гораздо более коварной форме, так как оно скрывалось под видом добродетели, искренности. У Бургвайлсдорфа только это слово и было на устах; он им пользовался как оружием: оборонительным — против любых обвинений в ненужной смелости и странности, и наступательным — против традиций и школы. Впрочем, он все-таки проявлял уважение к нескольким великим художникам и следовал законам их школы, на что я обращал внимание как Эвелины, так и его самого. Но он преднамеренно расценивал как лицемерие или по крайней мере как неискренность любое стремление к совершенствованию и любое подчинение восприятия и эмоций идеалу. Я признаю, что благодаря настойчивому поиску наиболее искреннего выражения он как художник добился новой особой тональности в своей живописи; я признаю это тем более охотно, поскольку я одним из первых по достоинству оценил его живопись. Но, поддавшись его влиянию, результаты которого не замедлили сказаться, Эвелина стала привносить понятие искренности в нравственность. Я не говорю, что ему там делать нечего, но оно может там стать чрезвычайно опасным, если ему сразу же не будет противопоставлено понятие высшего долга. Иначе можно дойти до того, что чувству достаточно быть искренним, чтобы заслужить одобрение, будто человеческая натура, которую Господь Бог называет так верно «ветхим человеком»,