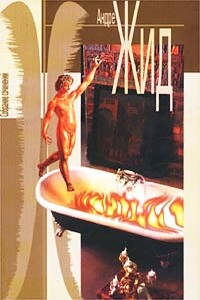Пасторальная симфония | страница 9
По этому поводу между Мартеном и мной разгорелась дискуссия, поскольку я восставал против его пессимизма и не допускал (как, по-видимому, допускал он), что наши чувства, в конечном счете, способны только на то, чтобы довести нас до отчаяния.
— Я думаю совсем иначе, — заявил я. — Я хочу сказать, что душа человека гораздо легче и охотнее рисует себе красоту, приволье и гармонию, чем беспорядок и грех, которые повсюду затемняют, грязнят, пачкают и сокрушают этот мир, о чем свидетельствует нам и чему заодно способствуют и помогают имеющиеся у нас пять чувств. Так что к вергилиевскому «fortunatos nimium» я скорее прибавил бы: «si sua mala nescient», чем: «si sua bona norint»,[1] которому нас обычно учат. О, как счастливы были бы люди, если бы не ведали зла!
Он рассказал мне еще об одной повести Диккенса, которая, по его мнению, была непосредственно навеяна случаем Лауры Бриджмен и которую он пообещал мне скоро прислать. Через четыре дня я действительно получил «Сверчка на печи», которого прочел с большим удовольствием. Это немного растянутая, но временами волнующая история слепой девушки, которую отец, бедный игрушечный мастер, все время окружает иллюзией комфорта, богатства и счастья; ложь, которую искусство Диккенса из всех сил старается представить святой, но которую я, благодарение богу, не стал бы пробовать на моей Гертруде. На следующий же день после посещения Мартена я начал применять на практике его метод, вкладывая в него все свои силы. Я очень жалею теперь, что не делал заметок (как он мне это советовал) о первых шагах Гертруды по той сумеречной дороге, по которой я мог вести ее вначале только ощупью. В первые недели понадобилось гораздо больше терпения, чем можно было бы думать, и не столько из-за времени, которое я затрачивал на это начальное воспитание, сколько вследствие упреков, которые это воспитание на меня навлекло. Мне тягостно писать, что упреки эти исходили от Амелии; впрочем, если я и упоминаю о них, то потому лишь, что не связал с ними никакого враждебного или горького чувства, — во всеуслышание заявляю об этом на тот случай, если бы листки эти со временем были ею прочитаны. (Разве прощение обид не было заповедано нам Христом немедленно вслед за притчей о заблудшей овце?) Скажу больше: в те самые дни, когда я сильнее всего страдал от ее упреков, я никак не мог сердиться на то, что она ставила мне на вид, будто я уделяю Гертруде чересчур много времени. Я скорее упрекнул бы ее за недостаточно твердую веру в успешный результат моих трудов. Больше всего меня тяготило ее маловерие; но и оно, впрочем, меня не обескураживало. Сколько раз мне приходилось выслушивать: «Если бы из этого хоть что-нибудь выходило!..» Она упорно держалась того мнения, что труды мои пропадают зря; и ей, конечно, казалось нелепостью, что я посвящаю этому делу время, которым я, по ее разумению, мог с неизмеримо большей пользой распорядиться иначе. И всякий раз, как я был занят Гертрудой, она старалась ввернуть, что кто-то или что-то во мне очень сильно нуждается, а я растрачиваю из-за этой девочки минуты, которые следовало бы отдать другим. А кроме того я думаю, что ее мучила своеобразная материнская ревность, поскольку у нее то и дело срывалось: «Ты никогда так не возился ни с одним из наших детей». И это правда; хотя я очень люблю своих детей, мне ни разу еще не приходило в голову, что я обязан подолгу с ними возиться.