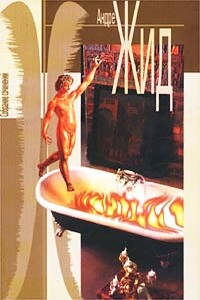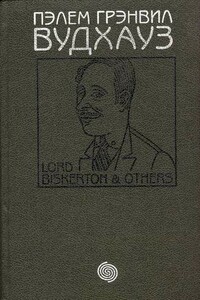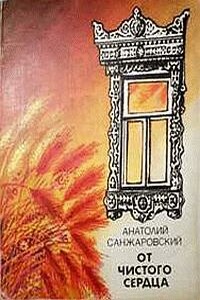Пасторальная симфония | страница 27
Наивность ее признаний, самое их простодушие успокаивало меня. Я говорил себе: она ребенок. Настоящая любовь была бы неразрывно связана с конфузливостью, с краской в лице. И, со своей стороны, я тоже убеждал ее, что люблю ее так, как любят увечного ребенка. Я смотрел за ней, как за больной, а самую ее тренировку превратил в моральный долг, в обязанность. И, конечно, в тот самый вечер, когда она говорила мне приведенные выше слова, когда я ощущал в душе такую легкость и радость, — я все еще заблуждался, как заблуждался и в момент записи ее слов. И потому именно, что я осуждал любовь и считал, что все предосудительное калечит душу, отсутствие тяжести на душе отстраняло самую мысль о любви.
Я привел все наши беседы не только в том виде, как они состоялись, но я и записал их в том самом настроении, которое у меня было тогда; сказать по правде — только сегодня ночью, перечитывая все мной написанное, я наконец правильно понял…
Сейчас же после отъезда Жака, — которому я разрешил объясниться с Гертрудой и который по возвращении провел здесь последние дни каникул, делая вид, что избегает Гертруду и говорит с ней только при мне, — жизнь наша вошла в обычную спокойную колею. Гертруда, как было решено, поселилась у Луизы, где я навещал ее каждый день. И все-таки я, страшась, очевидно, любви, старался не говорить с нею о вещах, способных ее растрогать. Я разговаривал с нею, как пастор, и чаще всего в присутствии Луизы, занимаясь прежде всего ее религиозным воспитанием и подготовляя ее к причастию, которого она сподобилась на пасхе.
В день пасхи я тоже причащался.
Все это имело место две недели тому назад. К моему изумлению, Жак, приезжавший к нам на неделю весенних каникул, не предстал вместе со мной перед престолом. И с великою скорбью мне приходится сказать, что впервые за все время нашего брака Амелия тоже не присутствовала. Казалось, что они сговорились и своим отказом от этой торжественной встречи решили набросить тень на мою радость. При этом я еще раз испытал удовольствие оттого, что Гертруда не могла ничего видеть и что тем самым одному только мне пришлось выдержать тяжесть этого огорчения. Я слишком хорошо знаю Амелию, чтобы не уяснить себе, сколько упрека таило в себе ее поведение. Обычно она никогда не выступает против меня открыто, она старается показать мне свое осуждение, создавая вокруг меня пустоту.
Я был глубоко задет, что обида этого рода — такая, о которой мне, собственно, стыдно упомянуть, — могла до такой степени занять душу Амелии, что отвлекла ее от исполнения самого высокого долга. По дороге домой я молился за нее со всей искренностью моего сердца.