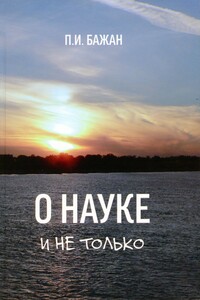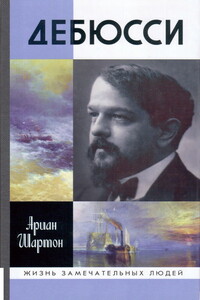С. А. Есенин в воспоминаниях современников. Том 2 | страница 50
О технике в поэзии Есенин отзывался в последние годы неодобрительно и враждебно:
— Знаем мы все эти штуки. Они думают, что все эти формальные приемы и ухищрения нам неизвестны. Не меньше их понимаем и в свое время обучились достаточно всему этому. Писать надобно как можно проще. Это трудней.
Его «простое» мастерство было высоким. Поэтический лексикон Есенина с первого взгляда незатейлив и даже беден, но проследите, что он делает в своих стихах с черемухой, с садом, с березкой: они у него всегда наши, родные и всегда выглядят по-иному. Даже избитое, шаблонное и трафаретное освежалось у него напором чувств и подкупающей искренностью.
Ранней весной 1925 года мы встретились в Баку. Есенин собирался в Персию: ему хотелось посмотреть сады Шираза и подышать воздухом, каким дышал Саади. Вид у Есенина был совсем не московский: по дороге в Баку, в вагоне у него украли верхнее платье, и он ходил в обтрепанном с чужих плеч пальтишке. Ботинки были неуклюжие, длинные, нечищеные, может быть, тоже с чужих ног. Он уже не завивался и не пудрился. Друзей, бережно и любовно относившихся к нему, у него было довольно. Жил он у тов. Чагина, следившего за его лечением, но показался в те дни одиноким, заброшенным, случайным гостем, неведомо зачем и почему очутившимся в этом городе нефти, копоти и пыли, словно ему было все равно куда приткнуться и причалить.
Мы расстались на набережной. Небо было свинцовое. С моря дул резкий и холодный ветер, поднимая над городом едкую пыль. Немотно, как древний страж веков, стояла Девичья башня. Море скалилось, показывая белые клыки, и гул прибоя был бездушен и неприютен. Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает.
На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.
— У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.
Он плакал больше часа.
«Пусть вся жизнь за песню продана»