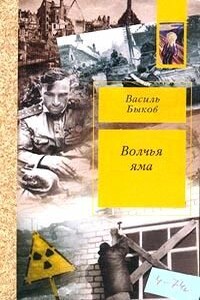На болотной стежке | страница 9
И без того страшная жизнь под оккупацией стала еще страшнее, довоенный террор усилился. Пошел слух, что партизаны будут карать всех колхозников, которые стали единоличниками и разобрали из колхозов прежнюю свою землю. Это считалось преступлением против государства, которое недавно еще эту землю обобществило и отдало колхозам в их вечное пользование. Но не колхозникам. Тут у партизан и немцев было полное единодушие, так как и немцы стояли за нерушимость колхозного строя. Крестьяне, однако, не послушались ни тех, ни других, потому что крестьяне хотели жить.
Крестьяне хотели жить, но именно жить им и не давали все власти — советская, оккупационная, партизанская. Если не война, так революция, или классовая борьба, или коллективизация и ликвидация врагов народа. Спокойной жизни в стране учительница не помнила ни одного года.
В школе, куда они приехали после окончания Полоцкого педтехникума, только еще начинали обучение на белорусском языке, учителей-белорусоведов не хватало… Ее отец, сельский учитель, еще с дореволюционных времен преподавал математику, кроме которой не хотел знать ничего другого. Молодой преподаватель истории и обществоведения, партиец и активист Афанасий Петрович взялся еще и за белорусский язык и литературу, за которые не хотел браться никто. Учителя чувствовали шаткость политики белорусизации, лицемерное отношение к ней большевиков. Некоторые белорусизацию сравнивали с НЭПом и предсказывали ей скорый и неизбежный крах. Афанасий Петрович, когда они уже поженились, как-то сказал ей, что также немало сомневался, но взялся именно потому, что другие отказались, а учить детей было необходимо. Он видел в этом свой долг народного интеллигента, ибо, чтобы развивать народную культуру, нужно было владеть национальным языком. Возможно, именно за это его отношение к своему долгу она и полюбила этого человека, чтобы потом стать его женой.
Его служение национальной культуре, как и предвидели умные люди, продолжалось несколько считанных лет, полных вражды, насилия, репрессий со стороны власти, которая, как всегда, декларировала одно, а на практике делала другое. Однажды весной Афанасия Петровича зачислили в нацдемы и арестовали. Арестовывали не дома и не в школе — в числе троих других, униженных и оболганных, взяли во время осеннего учительского совещания, в зале, украшенном кумачовыми лозунгами и портретами Ленина-Сталина.
Она думала, что сойдет с ума из-за дикой несправедливости, писала и жаловалась, куда только можно было — от сельсовета до ЦИКа и товарища Червякова, да все напрасно. Итогом ее хлопот стало скорое исключение из комсомола. Заведующий районо однажды сурово повелел ей отказаться от мужа, иначе он не будет иметь возможности оставить ее в школе. Она долго колебалась, тянула с этим отказом, пока сам заведующий однажды и навсегда не исчез со своей квартиры. Никто не видел, как он исчез, но никто его и не искал. Отец тогда ей сказал: как ты можешь отказаться от человека, который является отцом твоего сына? Что тебе скажет сын, когда станет взрослым? Вообще она тоже готовилась к аресту, договорилась с подругой насчет Владика, но подругу арестовали раньше, а она осталась. Спасло ее, как она считала, то, что она преподавала русский язык, и никогда — белорусский. После ареста Афанасия Петровича преподавать белорусский было некому, два года он не преподавался в школе. Учителя боялись браться за него, как и за белорусскую литературу тоже. Не было никакой гарантии, что через месяц или через год тебя не объявят националистом, врагом народа. Только одна учительница — еврейка Римма Борисовна на это согласилась, в белорусские националистки зачислить ее было трудно. До самой войны она преподавала в местечковой школе белорусский язык, и предвоенное поколение местечковцев пошло на войну со знанием родного языка, усвоенного от белорусоведа-еврейки. Сама же Римма Борисовна легла в общую могилу на окраине местечка, где в один день и час были расстреляны все местечковые евреи. И среди них — один нееврей, старый учитель математики Станислав Альбертович — ее отец, дед ее Владика.