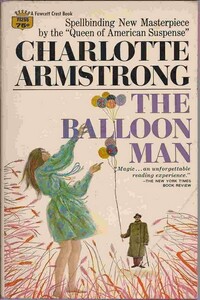В руках Божьих | страница 13
— Вы знали, что он вас выдаст? — наконец спросил генерал, взглянув в сторону караульной палатки.
— Да, сэр.
— Но считали, что должны это сделать, да?
— Я считал это необходимым, сэр.
Генерал замолчал, побарабанил пальцами по столу, принимая решение. Приняв, он вскинул голову — жест, который мы так в нем любили.
— Я подробнее разберусь в этом, — сказал он. — Тут упомянули имя офицера, я поговорю с ним. А вы можете идти, продолжайте воевать.
Капрал Коннал понес наказание за свое преступление еще до того, как солнце встало над позициями, занятыми противником. Против него было выдвинуто огромное количество косвенных улик, помимо прямых показаний Раффлса и моих, и без особых церемоний и задержек негодяя расстреляли. И это было единственное приятное событие в тот день, который начался с того, что мы спрятались в кустах над ущельем; к полудню наступила моя очередь. До сих пор я еще не упоминал о собственном ранении, пока в этом не было нужды, по прочитанному на предыдущих страницах вы вряд ли догадались, что я остался, в общем-то, хромым на всю жизнь. Вы скоро поймете, почему я не торопился вспоминать об этом. Раны, полученные на службе отечеству, я раньше считал самой большой наградой для мужчины. Но моя каждое утро отравляет мне существование, я получил ее прежде всего из-за собственной медлительности, когда нужно было спрятаться в укрытие, что наше доблестное подразделение осуществило с особым блеском (усугубив тем мое положение).
Пуля прошила мне бедро, просверлила кость, не задев, к счастью, седалищного нерва; боль могла бы быть и сильнее, но я, конечно, рухнул как подкошенный. Мы ползли по-пластунски, чтобы атаковать холм и таким образом расширить наши позиции, и именно в этот момент обстрел стал еще сильнее, несколько часов мы не могли двинуться ни вперед, ни назад. Не прошло и минуты, как сквозь этот шквал ко мне прорвался Раффлс, а уже в следующую я лежал на спине за скалой, и он, наклонившись надо мной, разматывал бинт, все это в самом пекле перестрелки. Все в руках Божьих, сказал он, когда я попросил его наклониться пониже, но в какой-то момент мне показалось, что его голос изменился. Однако он сделал мне одолжение, стал вести себя осторожнее и, после того как оттащил меня в укрытие, спрятался сам. Так мы и лежали вместе, распластавшись в вельде под палящим солнцем и утихающим огнем перестрелки, и мне, пожалуй, надо теперь описать вельд, как он как будто плывет, поблескивая огоньками, перед глазами раненого. Я зажмуриваюсь, чтобы припомнить эту картину, но все, что я вижу, — это озабоченное загорелое лицо Раффлса, он то склоняется к прицелу, то проверяет, каков результат, брови подняты, глаза широко открыты, а вот он оборачивается ко мне и бросает фразу, которая заставляет расплыться в улыбке мои крепко сжатые губы. Он все время болтает, но я знаю, что это только ради меня. Удивительно ли, что я совсем не видел, что происходит за ним, ни на дюйм? Он был для меня всей битвой, а когда я теперь вспоминаю об этом, он был для меня и всей войной.