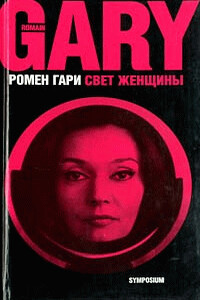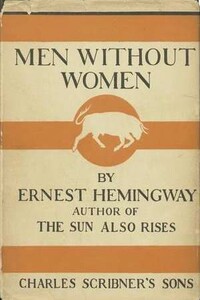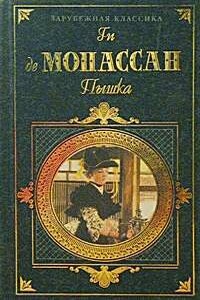Псевдо | страница 52
Мой отец был директором отелей «Скриб» и «Континенталь». Мне еще случается встречать в Ницце людей, которые смотрят на меня с уважением, потому что он был легендарным пьяницей. Никто и никогда не видел его пьяным. В девятнадцать лет он начинал день с полубутылки сливовицы.
Он оставил мою мать в нищете, но с легендой.
Когда газеты написали, что Эмиль Ажар не существует, что все сфабриковано, они были правы. Я чертовски сфабрикован и даже доведен до блеска.
Мы все сами себе незаконнорожденные.
Госпожа Ивонн Баби спросила меня:
– Как к вам пришла мысль писать ажаром?
Не пришла она мне в голову. Мне ее подарили. За так.
У меня в лицее в Ницце был приятель, у которого мать была в приюте для умалишенных. А отец алкоголик.
Приятели звали его Жежен.
Я-то переехал в Тулузу и закончил лицей там.
Жежен. Альманах Вермо знаете?
Вот так я и украл у приятеля идею писать ажаром.
Однажды вечером мама взяла картонку, сунула туда не глядя кучу драгоценностей и часов, потому что «Рубин» был еще и часовым магазином, и отправилась пешком из Ниццы в Париж – повидать меня.
Когда ее нашли, она блуждала по полям, не разбирая дороги, и не могла говорить.
Так длилось полтора года, то туда, то обратно.
Она говорила:
– Ты будешь писателем, когда…
А может быть, она говорила: как дядя. Уже не помню.
Моя мать – семидесятипятилетняя дама, датчанка, которая мирно проживает в Бьерко, разводит собак и цветы. У нее седые волосы, она часто смеется. Я вижу ее по нескольку раз в день, особенно теперь, когда живу в Копенгагене. Мой отец тоже датчанин, он дальний родственник доктора Христиансена. Думаю, мой настоящий отец – доктор Христиансен, и сам я тоже датчанин. Датчане – не антисемиты.
Я использовал предсмертные мучения лично мне не известной дамы, чтобы описать агонию мадам Розы в романе «Вся жизнь впереди».
Не хочу об этом говорить и именно поэтому говорю.
Вот передо мной Поль Павлович. Ему двадцать лет. Он пишет стихи под напором внутреннего крика. Но сквозь стихи по-прежнему пробивается крик, он растет и растет. Крик не может выйти наружу и разбухает. Он начинает гнить. Крик не может высвободиться, и преступление остается внутри. Жизнь продолжается, одно преступление пыталось переплюнуть другое. Тогда крик становится андским королевским кондором, взлетает, и тут у меня случились первые неприятности, потому что я сел на крышу и не хотел с нее слезать. Я стал овощем, артишоком, но я недолго оставался артишоком, потому что с него снимают листья, его смакуют, он питателен, это все равно что быть поэтом, их тоже все время смакуют.