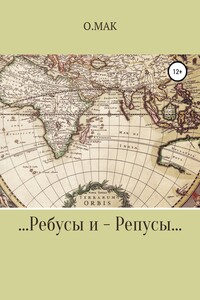Как я таким стал, или Шизоэпиэкзистенция | страница 95
Однажды я пересилил себя и отправил его в нокдаун. После этого трое таких, как он, били меня в переулке.
Павел Грачев для меня воплощение вынимающей душу абсолютной неправедности. Он – исчадие неправедности, не прикрытое ничем. Я и другие неправедные люди, прикрываемся белыми одеждами благообразия, чистыми на вид или запятнанными, но прикрываемся или прикрыты близкими. Он – нет: ему нечем прикрыться и потому его неправедность – эта вечный стыд, вечная боль, которую можно унять, лишь ударив, лишь пустив ее в ход.
Иногда мне кажется – его ненависть спасла меня. Нет, не спасла – я ведь погибаю. Его ненависть – это веревочка, все еще связывающая меня с миром, сопротивляющимся гибели. Она пока держит.
Еще меня ненавидела Надежда. Ненавидела так же, как и Грачев, ненавидела из-за угла. И ненавидела многогранно – ведь мы в общей сложности прожили десять лет. В спорах с друзьями и знакомыми неизменно становилась на их сторону. Любую критику в мой адрес воспринимала с ликованием. Предпоследний всплеск ее ненависти разорвал в клочки рукопись моей диссертации, разорвал перед последним со мной разрывом, а последний – помог свински охарактеризовать моральные качества моей мамы в присутствии ее мужа (работая со мной в Управлении, Надя многое узнала).
Она ненавидела меня, как запрещающий знак; как руководство, возбраняющее использование; как футшток, показывающий неподходящую глубину, как бармена, отказавшегося налить, как провидца и очевидца.
Юра Житник, товарищ и коллега, тоже ненавидел. Люто ненавидел... За что? Наверное, за то же, что и Надежда. За чувство собственного достоинства. В меня его не вставили, и я вынужден постоянно его создавать и поддерживать, умножая знания и квалификацию, а также в спорах и обменах мнениями. А в него самоуважение вставили, как ребро, и он был, как глыба, как камень, по которому чесался мой резец, мой язык. Не в силах соперничать со мной (куда комплексу превосходства против комплекса неполноценности?), он взялся за Надю. Клал ей в стол шоколадки, смотрел масляными глазами. Она ему жаловалась, он сочувственно кивал – они были одной крови. Потом мы дрались, я сломал ему руку, и следующие полгода он, засучив рукава, сажал меня в тюрьму.
А мама Лена? Она тоже ненавидит, иногда, но ненавидит... За то, что не такой, как все, за то, что другие, не я, меняют "Мерседесы", одеваются с иголочки, и с ними легко жить и думать о будущем.
А Света? Ее мать, Вера Зелековна?