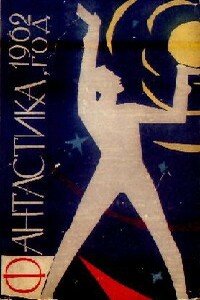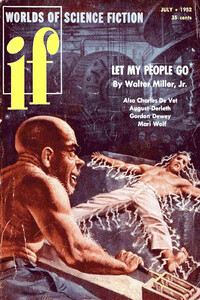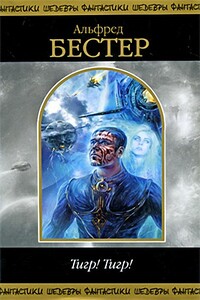Рисунок Дароткана | страница 41
Мне уже довелось видеть картины, когда я бывал с тетей в интеллигентных семьях. Но эти картины не имели ничего общего с рисунком Дароткана. Они походили на сцену плохого любительского спектакля, где дурно загримированные люди повторяли за суфлером реплики – неживые, картонные слова.
Мир на рисунке Дароткана звал, как зовет тропа в лесу.
Да, мне теперь, как никогда, хотелось туда, где в синей воде плавают облака и гибкие зеленые хариусы.
В Томск вступили белые и расстреляли того самого гимназиста, который всегда шагал в последнем ряду красногвардейской роты, держа винтовку на худеньком плече.
Тетя ходила собранная и строгая, она ждала ареста и просила меня отвечать на любые вопросы незнакомых людей: «Я не знаю».
Да, наш собственный язык и тот был против нас, и существовали только три слова, на которые можно положиться, три слова, составлявшие короткую фразу:
«Я не знаю».
Я поступил в гимназию, где бородатый, покрытый перхотью дядька в широких, всегда помятых штанах уводил гимназистов в сумеречное зало на утреннюю молитву.
В классе висел портрет Антона Павловича Чехова, большая географическая карта и изображение канадца, идущего на круглых плетеных лыжах по глубокому снегу далекой от нас североамериканской зимы. Ноги у канадца были почему-то смешно согнуты в коленях, и это изображение внесло в мое наивное сознание мысль, что все канадцы ходят такой же смешной и необычной походкой.
Наш классный наставник Петр Иванович походил одновременно на Антона Павловича Чехова и на канадца. Он носил чеховское пенсне с черным шнурком, перекинутым через всегда настороженное и прислушивающееся ухо, и ходил, как канадец, низко согнув колени, словно под ним был не зашарканный гимназистами пол, а глубокий снег.
Томские зимы были, вероятно, куда более свирепыми, чем канадские. Но у канадских зим было одно существенное преимущество: они существовали не только в действительности, но и в воображении.
Воображение уносило меня из класса на те вдруг ожившие просторы, которые, словно боясь классного наставника, до поры до времени лежали, уменьшившись в миллион раз, на сверкавшей всеми цветами географической карте. География стала любимым моим предметом, хотя ее и преподавал молодцеватый поручик с эмалевым университетским значком на элегантном зеленом белогвардейском френче.
– Встать! – командовал он, входя в класс. И мы вскакивали.
– Садитесь, – разрешал он, и голос его гас, становился другим, более интимным и штатским.