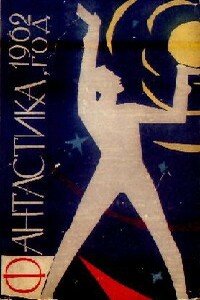Рисунок Дароткана | страница 26
Степь, медлительная, как речь бурята, вливалась в мое сознание, то пробуждая его, то обволакивая мягкой, как кошма, дремотой. Время от времени степной ветерок разгонял дремоту, и степь, вдруг заторопясь, начинала сменять заранее заготовленные картины, как художник, развертывающий свои свернутые холсты.
Вот кудрявое облачко в перевернутом вверх дном озере, а вот заросший шерстью камень, только что прибежавший на своих толстых медвежьих ногах.
Степь разомкнула простор и вдруг стала играть в необычайную игру, пытаясь запереть нас, дорогу, лошадь с тарантасом и кого-то невидимого, спрятавшегося за тучей, в своей взболтанной лошадиными копытами синеве.
Степь была еще более живой, чем мы с дедом и чем наша лошадь, тщетно пытающаяся превозмочь пространство, оторваться от одного места, чтобы оказаться в другом, бесчисленное множество раз повторявшем самого себя. Казалось, мы попались в ловушку, где время надело на себя простор, сшитый из сухой травы и полыни, отменив все. в том числе горизонт.
Степь, а может и выпитая перед отъездом водка, действовала на деда, то погружавшегося в дремоту, доверившись лошади и дороге, то вдруг просыпавшегося, чтобы вступить в спор с кем-то отсутствующим, кого я, однако, представлял здесь, в тарантасе, по закону родства.
Тайна, так тщательно скрываемая моей бабушкой от старосты Степана Харламыча и от меня, вдруг начала раскрываться, наматываясь на колеса тарантаса вместе с дорогой, степью и небом, где туча уже превратилась в кудрявое облако, похожее на пасущегося в синеве барана.
Теперь я уже знал адрес давно исчезнувших родителей, снова сидевших в читинской тюрьме.
Дед упрекал закутанного в даль моего отца, что, губя свою жизнь ради непонятной ему – деду – цели, он губил и мою мать, превратив меня, в сущности, в сироту и принеся в жертву своей туманной цели.
Забыв о моем присутствии, дед говорил это дороге, уже навострившей свои лошадиные уши, и тихо звеневшей степи, словно только от них мог ждать полного понимания и сочувствия.
Степь со своим разбегавшимся во все стороны простором была полной противоположностью того места, которое скрыло мою мать и моего отца ото всех, и в том числе от меня, больше всех нуждавшегося в них.
И вот теперь дед спрашивал то ли моего отсутствующего отца, то ли степь с дорогой: есть ли на свете что-то такое, из-за чего можно добровольно променять простор на неволю?
Ни степь, ни дорога не спешили отвечать на вопросы деда. И он явно был подавлен всеобщим молчанием, словно простор был в заговоре с моим отцом и теперь молчаливо осуждал деда за его чрезмерную разговорчивость и за то, что он раскрыл тайну, которую обещал моей бабушке держать в секрете от меня.