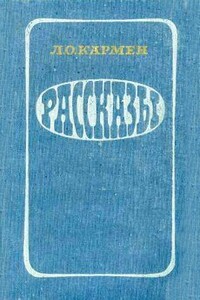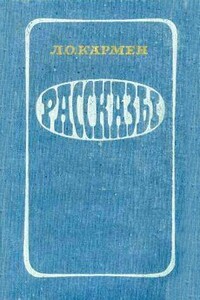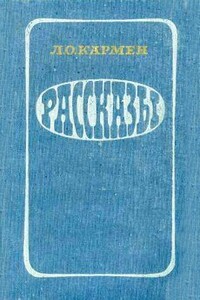Река вскрылась | страница 5
Сила их уже сказывалась.
Правительство стало терять голову.
Еще несколько дней – и по всей России пронесется голод. Он грозил не только подвалам и мансардам, но и дворцам и хоромам.
Грозил цингой, тифом.
Обеспокоенное правительство спешно скупало провизию для армии. То же делало городское общественное управление для больниц и богаделен.
На сей раз тяжелая перчатка была брошена правительству, и эту перчатку бросили главным образом железнодорожники…
– Где заседают железнодорожники, товарищи? – только и слышались расспросы.
Ивану с большим трудом удалось взобраться на гребень трехсаженной волны, затопившей лестницу, и протиснуться в актовый зал.
Громадный зал весь, от угла до угла, был заполнен публикой.
Масса девиц и юношей стояли, вытянувшись, на подоконниках высоких окон, и казалось, они стоят на головах.
На кафедре, выступавшей среди этого живого моря наподобие подводного островка и как бы напором воды вынесенной к стене, стояла кучка людей: несколько девиц, студент, трое молодых рабочих, – и из середины ее вылетало бурное пламя.
Кто-то говорил страстно, горячо, – о либералах, которым не следует доверяться, о необходимости дальнейшей забастовки, о драконе, который корчится в агонии…
Говоривший был не студент и не профессиональный оратор-интеллигент, а простой рабочий-юноша.
Он был худощав, из-за потертого пиджачка его смело выглядывала нижняя бесцветная сорочка, застегнутая на груди белой стеклянной пуговицей.
Острый угол его высохшего, но одухотворенного лица от яркого электрического света был красен, как медь, и все движения его – страстны и порывисты.
Он не говорил, а с размаху бил по наковальне пудовым молотом, или, вернее, бросал в толпу тяжелые камни.
Иван был поражен.
Он перевидал сотни ораторов во всех государствах, слышал Жореса, Бебеля, Плеханова, пламеннейших итальянских ораторов, которых, как казалось, породил Везувий; он лично был прекрасным оратором, но такого он слышал впервые.
Устами этого титана-юноши говорила и взывала к правде, совести и справедливости нищета, таящаяся по чердакам, подвалам и хатам, мрак и холод, – и он являлся лучшим выразителем их.
Он выносил наружу все слезы, все язвы, все горе, накопившееся веками, и требовал возмездия, требовал суда.
Голос его, громкий, не устающий, вырывался точно из глубочайших недр земли.
«Кто он?»
Его вскормила и вспоила сухой грудью нужда, и теперь, когда все поднялось и зашевелилось, она выслала его на трибуну.
Сотни тысяч рук обездоленных матерей выставили его своим защитником и благословили его на борьбу.