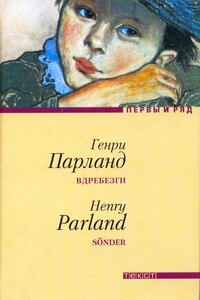Шелест срубленных деревьев | страница 7
В его памяти, которая старела медленней, чем глаза и слух, вспыхивали лица и вещи, слова и звуки.
Я садился рядом с ним и, стыдясь своего бессилия и тщетно стараясь собрать жалостливое, разлетавшееся на мелкие брызги внимание, слушал его рассказы, начиненные назиданиями и предсмертной хрипотцой. Собственно, то были не рассказы, а тяжелые выдохи, полувнятные бормотания, прерывавшиеся непрошеными слезами и неожиданными погружениями в сон.
Сон придавал его лицу какую-то детскость и, несмотря на уже неживой, потусторонний цвет, даже безмятежность. В такие минуты он напоминал того безымянного, облепленного мухами младенца в подвешенной к потолку люльке.
И хотя в комнате, кроме меня, никого не было – ни мух (самые смелые них, и те предусмотрительно попрятались от холода за отопительные батареи), ни моей мачехи, бессмысленно-сосредоточенно гремевшей горшками на кухне, – впечатление было такое, что я не один, что за моей спиной шебуршат Рыжая Роха – моя бабушка, суровая, мужеподобная повитуха Мина в длинной до пят юбке и моя тетка Лея – маленькая девочка в ситцевом платьице в горошек, погонщица мух при дворе царя Соломона.
Лея исступленно размахивала полотенцем с увядшей бахромой и гнала прочь от младшего брата смерть, но та, как назойливая муха, кружилась над его царским сном, над его библейским именем, над ъеденным древоточцем старомодным диваном.
Жжж-жжж-жжж…
Смерть упивалась своим жужжанием.
Она то великодушно, по-хозяйски взлетала с жесткой и седой щетины четвертого сына сапожника Довида – Шломо – под самый потолок, где не столько светила, сколько сумрачно пылилась трофейная люстра; то уверенно и бодро снижалась и, самонадеянно расправляя свои крылышки, принималась наперекор вечной и несговорчивой сопернице – жни – выводить своими крючковатыми ножками на давным-давно отпылавших, каменеющих щеках моего отца надгробные письмена, переставшие быть загадкой и не нуждающиеся ни в каком переводе.
Жжж-жжж-жжж…
Молчание Он не имел обыкновения рассказывать о себе, копаться в своем прошлом, распространяться о настоящем или суеверно заглядывать в будущее, которое его почти не интересовало, как будто будущего вообще на свете не существовало. Все для него исчерпывалось доступным и простым, как моток ниток, понятием – работа. В нем, в этом емком и лишенном всякой напыщенности слове, умещались и день вчерашний, и сегодняшний, и завтрашний. Кончится работа – кончится жнь. Однако, как ему ни хотелось, чтобы раньше, чем работа, кончилась его жнь, к несчастью, вышло наоборот: работа умерла задолго до его собственной смерти, и он помимо своей воли еще чуть ли не целое десятилетие продолжал тлеть, как угли в остывающем утюге.