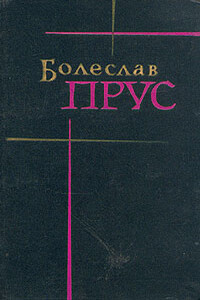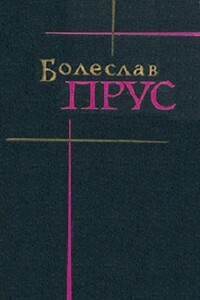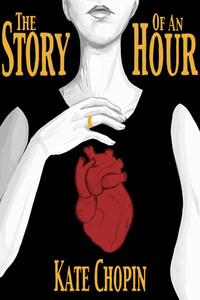Примирение | страница 23
— Уж мы ею займемся, — насмешливо пообещал Леськевич.
Быстро и без приключений они подъехали к дому. Лукашевский хотел взять Валека под руку, но больной взбежал по лестнице, как заяц, и оказался на третьем этаже прежде, чем его покровители поднялись на второй. Несмотря на это, Лукашевский велел мальчику раздеться, уложил его на свою кровать, старательно выстукал и выслушал со всех сторон, чем даже вызвал зависть у Леськевича, которого давно уже не выстукивали.
В результате, убедившись, что мальчику ничего не угрожает, Лукашевский позвал дворничиху и приказал ей поставить самовар. В это время Леськевич заметил висевшие на двери уже переделанные брюки и… внимательно их осмотрел.
— Вы подшили так, как вам показал пан Громадзкий? — обратился Лукашевский к Барбаре.
— Что я подшила? Эти штанишки?.. — с удивлением спросила дворничиха. — Да ведь это не я… Пан Громадзкий что-то мастерил иголкой, может, он и подшил… — добавила она тоном, в котором сквозили ирония и неприязнь.
— Ну что, разве я не говорил!.. — поспешно вмешался Леськевич, с торжеством глядя на Лукашевского. — Интересно только, где сорок грошей?.. — злорадно заметил он.
— Сорок грошей, — отозвалась Барбара, — мне дал пан Громадзкий, чтобы я выстирала белье мальчишки. Но такую монету никто, наверно, не примет, она же дырявая…
И дворничиха извлекла из кармана денежку, ту самую, которую Леськевич, отправляясь на обед, собственноручно положил на стол.
Леськевич, увидев это, в самом деле смутился: вытаращил глаза и разинул рот, ироническое выражение сползло с его лица. Он почти с испугом смотрел на монетку.
— Принесите лимон, — обратился Лукашевский к дворничихе, а когда она ушла, сказал своему растерявшемуся товарищу:
— Ну, а теперь что?
И с упреком поглядел ему в глаза.
— Но зачем он сделал это? — спросил Леськевич, стараясь вернуть себе утраченное спокойствие.
— Затем, что хотел что-нибудь подарить малышу, а раз он гол как сокол, то починил ему брюки и велел выстирать белье, — ответил Лукашевский. — Неужели у тебя настолько башка не варит, Селезень, что ты даже этого не понимаешь?.. Скряга!.. эгоист!.. — продолжал он, смеясь. — А я тебе скажу, что Громада благороднее не только тебя, но и всех нас… Вот это человек…
Леськевич глубоко задумался. Он ходил по комнате, кусал губы, поглядывал в окно. Наконец, взял шапку и вышел, даже не попрощавшись с Лукашевским.
Он был задет до глубины души, и в нём начался процесс брожения; но какая с ним произойдет перемена, в хорошую или в дурную сторону, Лукашевский не мог угадать.