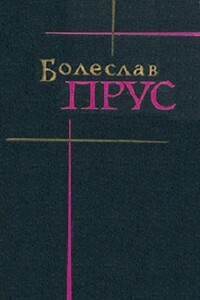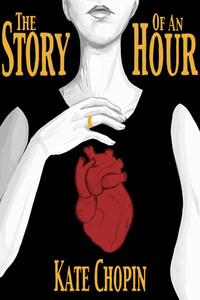Кукла | страница 26
— Почему? Ведь у нас войны не было, — удивился Игнаций.
— Ах да!.. Вы совсем даже неплохо веселились. Помню, в декабре у вас тут устраивали великолепные живые картины. Кто выступал в них?
— Ну, я такими глупостями не интересуюсь.
— Верно. А я в тот день и десяти тысяч рублей не пожалел бы, лишь бы увидеть их. Еще большая глупость! Не так ли?..
— Конечно… хотя многое объясняется одиночеством, скукой…
— А может быть, тоскою, — прервал Вокульский. — Она пожирала у меня каждую минуту, свободную от работы, каждый час досуга. Налей мне вина, Игнаций.
Он выпил и снова зашагал по комнате, говоря приглушенным голосом:
— Первый раз это нашло на меня во время переправы через Дунай, которая продолжалась с вечера до глубокой ночи. Я плыл один с перевозчиком-цыганом. Разговаривать нельзя было, и я молча разглядывал окрестности. В тех местах берега песчаные, как у нас. И деревья похожи на наши ивы, и холмы, поросшие орешником, и темные купы сосен. На минуту мне показалось, что я на родине и что к ночи я снова увижусь с вами. Спустилась желанная ночь, но не стало видно берегов. Я был один на бесконечной полосе воды, в которой отражались бледные звезды. И мне подумалось, что вот я так страшно далеко от дома, и эти звезды сейчас единственное, что еще связывает меня с вами, но в этот миг там, у вас, никто, быть может, на них и не смотрит, никто меня не помнит, никто!.. Я почувствовал, как что-то словно разорвалось внутри меня, и только тогда понял, какая глубокая рана у меня в душе.
— Это правда, я никогда не интересовался звездами, — тихо сказал Игнаций.
— С того дня началась у меня странная болезнь, — продолжал Вокульский.
— Пока я писал письма, составлял счета, получал товары, рассылал своих агентов, пока чуть ли не на себе тащил и разгружал сломавшиеся телеги или подстерегал крадущегося грабителя, — я был более или менее спокоен. Но стоило мне оторваться от дел или хотя бы на минуту отложить перо, и я сразу чувствовал боль, как будто у меня, — понимаешь, Игнаций, — как будто у меня в сердце застряла песчинка. Бывало, я хожу, ем, разговариваю, трезво рассуждаю, осматриваю красивые окрестности, даже смеюсь и веселюсь — и, несмотря на это, чувствую внутри какое-то тупое покалывание, какое-то неясное беспокойство, еле-еле заметную тревогу.
Эта хроническая подавленность, невыразимо мучительная, из-за малейшего пустяка могла перейти в бурю. Дерево знакомого вида, обнаженный холм, цвет облаков, полет птицы, даже порыв ветра без всякого повода вызывали у меня такой прилив отчаяния, что я бежал от людей. Я искал пустынный уголок, где бы можно было, не боясь, что кто-нибудь услышит, броситься на землю и по-собачьи завыть от боли.