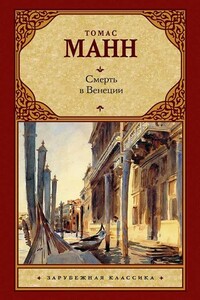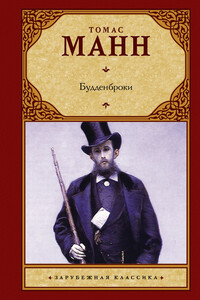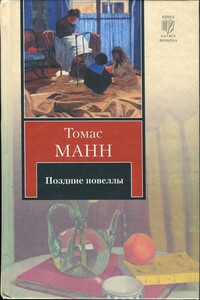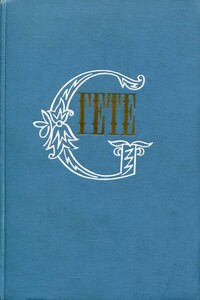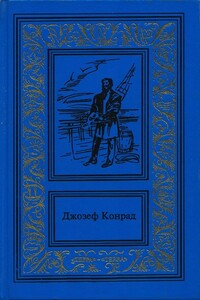Хозяин и собака | страница 43
Всю дорогу домой я казнился, и если раньше я скучал по Баушану, то теперь к этому прибавилось беспокойство за него, за его душевное состояние, сомнение в чистоте собственных побуждений и укоры совести. Уж не из тщеславия ли и эгоистического чванства потащил я Баушана в университет? А может быть, мною руководило тайное желание избавиться от него, любопытно было посмотреть, как потечет моя жизнь, когда я освобожусь от его неотступного надзора и со спокойной душой буду сворачивать, куда захочу, – направо или налево, не вызывая ни в едином живом существе чувства радости или горького разочарования? Что греха таить, с того дня, как Баушана поместили в клинику, я и в самом деле наслаждался давно не испытанной внутренней свободой. Никто не донимал меня видом своего мученического ожидания за стеклянной дверью. Никто, стоя у порога с робко поднятой лапой, не вызывал у меня растроганной улыбки и не отрывал раньше времени от работы. Шел ли я в парк, сидел ли дома, никому до этого не было дела. Жизнь и вправду потекла удобная, покойная и не лишенная прелести новизны. Но так как обычный стимул для прогулок отсутствовал, то я почти перестал выходить. Здоровье мое пошатнулось, и когда я уже, можно сказать, дошел до состояния запертого в клетке Баушана, то вынужден был сделать вывод, что оковы сострадания более способствовали моему личному благополучию, нежели эгоистическая свобода, которой я так жаждал.
Прошла еще одна неделя, и в назначенный день я снова стоял с бородатым служителем перед клеткой Баушана. Он лежал на боку, бессильно растянувшись на подстилке из толченой дубовой коры, которая пачкала ему шерсть; голова у него запрокинулась, и тупой, стеклянный взгляд был устремлен на выбеленную известкой заднюю стенку. Он не шевелился.
Лишь присмотревшись, можно было увидеть, что он еще дышит. Но время от времени тихий, раздиравший мне сердце вибрирующий стон вздымал его грудную клетку с выпирающими ребрами. Оттого что он страшно исхудал, ноги его казались несоразмерно длинными, а лапы огромными.
Шерсть облезла, свалялась и, как я уже говорил, перепачкалась, потому что он ворочался в дубовом корье. Он не обратил на меня никакого внимания; и казалось, вообще никогда уже ни на что не будет обращать внимания.
Кровотечения еще не совсем прошли, сказал служитель, иногда они ни с того ни с сего опять начинаются. Чем они вызваны, еще окончательно не установлено, – во всяком случае, это не опасно. Если мне угодно, я могу оставить собаку здесь для дальнейшего наблюдения, чтобы уж знать наверное, что с ней, но могу и забрать ее домой, там она со временем поправится. Тут я вытащил из кармана поводок, который прихватил с собой, и сказал, что забираю Баушана. Служитель нашел это разумным. Он отворил клетку, и мы оба, порознй и вместе, стали звать Баушана, но бедняга не шел, он по-прежнему лежал, уставившись в белую стенку над своей головой. Правда, когда я просунул руку в клетку и вытащил его за ошейник, он не сопротивлялся. Но он не выпрыгнул, а скорее свалился на все четыре лапы и стоял, прджав хвост и опустив уши, – донельзя жалкое зрелище. Я пристегнул ему поводок, дал служителю на чай и пошел в контору рассчитаться: при таксе в семьдесят пять пфеннигов за сутки, плюс гонорар врачу за первый осмотр, пребывание Баушана в лечебнице обошлось мне в двенадцать с половиной марок. Затем, окутанные облаком сладковато-звериного запаха клиники, которым насквозь пропитался Баушан, мы тронулись домой.