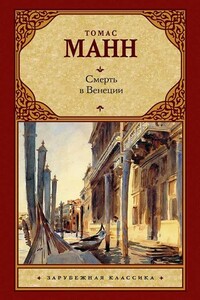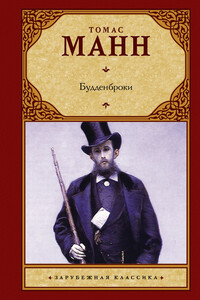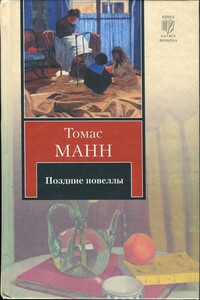Хозяин и собака | страница 12
Это случалось не раз, потом Баушан смирился и больше не провожал меня, когда я поворачивал налево. Лишь только я выхожу за дверь, он уже знает, что у меня на уме: охота или светские развлечения. Он вскакивает с половика, на котором лежал, поджидая меня в тени подъезда, сразу угадав мои намерения по тому, как я одет, какая у меня тросточка, какое выражение лица, по тому, взглянул ли я на него мельком, холодно и деловито, или же, напротив, ласково и дружелюбно. Как тут не понять! Если по всему видно, что прогулка состоится, он кубарем скатывается со ступенек и в немом восторге гарцует впереди меня по направлению к калитке, а если надежды нет, настроение его падает, он никнет, прижимает уши, вид у него становится трагически печальный, а в глазах появляется то робкое, жалковиноватое выражение,.которое в несчастье одинаково свойственно и людям и животным.
Иногда, наперекор всему, он отказывается верить, что на сегодня все кончено и охота не состоится. Уж очень ему хотелось погулять! И, обманывая себя, Баушан предпочитает не видеть ни городской тросточки, ни благопристойной сюртучной пары, в которую я облекаюсь ради такого случая. Он проталкивается вместе со мной в калитку, крутится «вокруг собственной оси и, в надежде меня соблазнить, припускается галопом направо по аллее, все время оглядываясь и не желая понять роковое «нет», которым я отвечаю на все его ухищрения. А когда я тем не менее поворачиваю налево, он бежит обратно и, громко сопя, с тонким жалобным присвистом, которого от волнения не в силах сдержать, провожает меня вдоль всего нашего забора; дойдя до решетки прилегающего парка, Баушан начинает прыгать через нее, туда и обратно; решетка эта довольно высокая, и, боясь ободрать себе живот, он всякий раз охает. Прыгает он с отчаяния, из того бесшабашного удальства, которому все нипочем, а в основном, конечно, чтобы меня задобрить и покорить своим усердием. Ведь еще не все потеряно, еще есть надежда, – правда, очень слабая, – что в конце парка я не пойду к трамвайной остановке, а еще раз сверну налево и, сделав небольшой крюк, чтобы опустить письмо в почтовый ящик, все же поведу его в лес. Это хоть и редко, но бывает, а когда и эта последняя надежда рассыпается прахом, Баушан садится на землю и предоставляет мне идти на все четыре стороны.
Так он и сидит посреди дороги в неуклюжей мужицкой позе и смотрит мне вслед, пока я не дохожу до самого конца проспекта. Если я оборачиваюсь, Баушан настораживает уши, но не бежит ко мне, – свистни я или позови его, он все равно не пойдет, он знает, что это бесполезно. Вот и конец аллеи, а Баушан все еще сиротливо сидит посреди дороги – крохотное, темное, нескладное пятнышко, при виде которого у меня всякий раз сжимается сердце, и я сажусь в трамвай, терзаясь угрызениями совести. Как он ждал! И что может быть ужаснее мук ожидания! А ведь вся его жизнь – ожидание прогулки со мной; не успеет он отдохнуть, как уж опять ждет, что я пойду с ним в лес. Он и ночью ждет, потому что спит Баушан урывками круглые сутки, то часик вздремнет на зеленом ковре лужайки, когда солнце славно припекает спину, то прикорнет за дерюжными занавесками конуры, коротая длинный, ничем не заполненный день. Но зато он не знает и ночного покоя, сон его прерывист и тревожен, он кружит в темноте по двору и саду, бросается туда и сюда и – ждет. Он ждет обхода сторожа с фонарем и, вопреки здравому смыслу, провожает его шаркающие шаги угрожающим и призывным лаем, ждет, квгда посветлеет небо, ждет, когда в дальнем садоводстве пропоет петух, ждет, когда утренний ветерок проснется в ветвях и когда отопрут наконец кухонную дверь и он сможет туда прошмыгнуть и погреться у плиты.