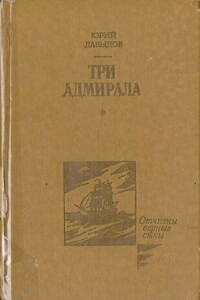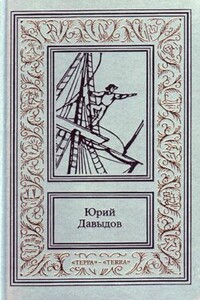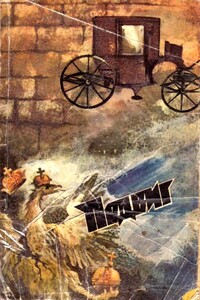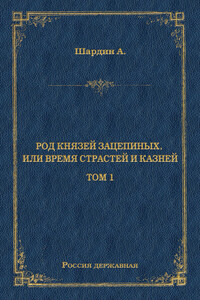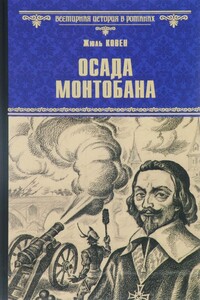Зоровавель | страница 8
О, в крепости Петра и Павла под солнцем марта капель гремела, щелкала, звенела. Большие голубые лужи, млея, принимали на постой кочевье облаков, все были кучевые. У комендантско-го подъезда расчеркивались полозья легких, как лебедушки, саней, и эти вензели мгновенно полнились водой и блеском. Статный жеребец дарил земле дымящиеся яблоки навоза, к ним воробей припрыгивал бочком. Поручик в молодых усах прищелкнул пальцами: «Куда как славно!» – и рассмеялся молодо, беспечно. А Кюхельбекер едва не всхлипнул от радости, от счастья сосуществовать с капелью, лужами и с вороным конем, и с воробьем, и с этим вот поручиком куда как славным.
Двери отворились, конвой раздался. В комендантском доме имели быть занятия Комиссии мундирных следователей по делу о происшествии 14 декабря. А нынче – ставка очная двух мятежников – лицейскою Жано с лицейским Вилли. И Кюхля повторит, чьим наущеньем он поднял пистолет на брата государя.
Ломилось в залу мартовское солнце, предлинная сосулька блестела за окном.
КОГДА-ТО он писал во гневе, гармонию вспугнув:
Его не оскорбили – его приговорили к отсечению головы.
Но дисгармонию отверг сам государь. Ходатаем явился брат меньшой. Тот самый, кого злодей и олух Кюхельбекер намеревался пулею ссадить с седла.
Судьба судьбине не синоним. Жуковский это объяснил претонко. Судьба есть рок; рок мечет жребий; жребий есть судьбина. Ее-то не объедешь на кривой – тебя везет фельдъегерь.
Пусть так. Но Кюхельбекер произносил не «жребий», а «жеребий», разумея предмет возвышенный и постижимый лишь головой, богам угодной.
Жеребий или жребий, а рок метал угрюмо: казематы на матером берегу и казематы островные. И нету трын-травы, растет трава забвенья. Но был, был старик Шекспир. Захватывало дух, кружилась в упоенье голова. Однако надо вам сказать, старик однажды пребольно наказал Вильгельма Карловича – в Ревеле, в тюремном замке.
Как запах осени в лесах Эстонии, был тонок дождик осени. Длинный узкий вымпел струился в даль не столь уж дальнюю. Сквозь щель в окне присвистывал ветер… то есть, конечно, ветр… присвистывал и повторял, прищелкивая: «Авинорм… Авинорм… Авинорм…» Вымпел перекликался с выпью, а выпь перекликалась с лешим; Корниловна, старуха-нянька, слезиночку не убирая, сказывала про Алексея, человека Божья; мальчик Вилли, такой, бедняга, золотушный, слушал; за стеною фатерхен и муттерхен играли на старом дребезгливом клавесине – память о Саксонии на этой мызе Авинорм, где яворы, березы, и речка булькает, как из бутылки. У запруды жил мельник в колпаке с бомбошкой и его жена, такая молодая., то есть младая… хотелось в губы целовать, и это было стыдно… Длинный вымпел струился на флагштоке, в щели оконной рамы посвистывал ветер, кропил, кропил осенний дождик, омывая свинцовые пластины кровли, и Кюхельбекер незаметно потерял ю равновесье сопротивленья и покорности, которое нам всем необходимо в немом, нагом тюремном каземаге. Он тосковал застенною тоской. Еe ужаснейший симптом тот темный морок, когда табак и наличии, да нету сил предаться саморазв-лечению, как называл один философ извод табачный в колечки дыма. Говорят, в часы такие мрут мухи и родятся полицмейстеры Последнее нуждается в проверке, а несомненно вот что в часы такие скукожится и черт, ему наскучит зло творить, и у тебя порыва нет покончить счеты с жизнью.