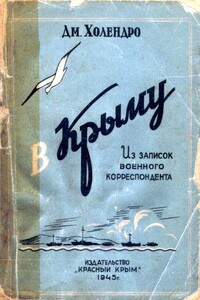Навеки — девятнадцатилетние | страница 23
Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжёлая артиллерия била с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев. Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную обрушенную во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным было жёлтое его нерусское лицо, неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И вся осыпана землёй остриженная под машинку чёрная, круглая голова: уже убитого, хоронил его другой снаряд.
Третьяков отошёл за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих воронок — и впереди, и позади, и прямые попадания, — огонь был силён. Этот грохот и слышали они на подходе.
Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулемёты, блестела, как стекло, мокрая крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращённый к солнцу клин подсолнечника.
Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти, где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил, наткнулся ещё на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно. Шинель на груди в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали ещё. Много видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая, манила, как непрожитая жизнь.
Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял эмалированный таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе гладил ветер по стриженым головам. Помкомвзвода Ча-баров, скрестив ноги по-турецки, почётно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой, бойцы зашевелились, кто лежал, начал садиться.
— Ешьте, ешьте, — сказал Третьяков. Но Чабаров строго глянул вокруг себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока ещё не свой. Постелив шинель под бок, Третьяков лёг и тоже начал есть. Наварист был суп из молодого козлёнка, и мясо — сладкое, сочное.
— А что, товарищ лейтенант, — спросил Кытин, ласковыми глазами хозяйки, всех накормившей, глядя на него, — на нашем фронте и воевать можно?