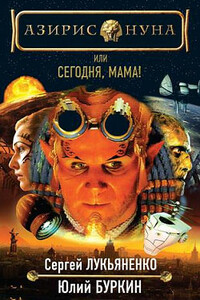Звездный табор, серебряный клинок | страница 61
Я принял инструмент из рук Гойки и на миг задумался… И решил взять слушателей контрастом. В противовес разухабистым Гойкиным песням спеть что-нибудь щемяще-грустное. Типа «Ночной птицы» Никольского или его же «Музыканта»: «Повесил свой сюртук…» Интересно, смогу ли я заставить их слушать меня на русском языке двадцатого века так, как слушали они Гойку на цыганском?
Я опрокинул в глотку рюмку водки, которая тоже появилась на нашем столике, поморщился и сказал:
— Я знаю песни только на диалекте своего родного табора.
И тут меня осенило. Я понял, что именно я буду петь. Когда-то давным-давно я сам положил на музыку стихи моего сокурсника Леши Михалева. И всем нравилось.
— В этой песне говорится о любви и о смерти, — сказал я. Хотел добавить что-то еще, но не стал. Потом переведу, если попросят. И я запел:
Люди слушали молча, завороженно глядя мне в рот. Я чувствовал себя удавом Каа в городе обезьян. Но краем глаза я увидел, как из-за соседнего столика поднялся какой-то человек и проворно вышел из нашего зала. Все, что я успел заметить в нем, — зачесанная на лоб челка и большие уши. Не всем, значит, нравится, как я пою. Ну и ладно, скатертью дорога. Я опустил глаза, чтобы больше не видеть ничего такого, что могло бы меня сбить.
Я замолчал и поднял глаза. Не знаю, может, я преувеличиваю или выдаю желаемое за действительное, но лица окружающих казались мне потрясенными.
— Тебе, братец, не здесь надо петь, — сказал Бенедикт, — а в столице, на сцене выступать. Бабки бы огребал немереные.
Я с удивлением увидел, что у него на коленях примостился молодой штурман Брайан и по щекам его текут слезы. Надо же, какой чувствительный. И это при том, что не понимает слов. Или Бенедикт так и не отпустил его руку и бедняга плачет от боли? Но нет, руки Брайана свободны.