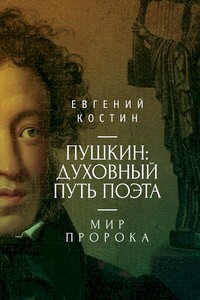Миры и столкновенья Осипа Мандельштама | страница 94
«Певучая игла» поэтического фонографа — Адмиралтейская игла. Переворачивание иглы задано структурой самого стиха. По формулировке М. Л. Гаспарова, «известно, что в ямбе и хорее от начала к концу строфы нарастает количество неполноударных строк: строфа стремится начаться строкой типа „Люблю тебя, Петра творенье“, а кончаться строкой типа „Адмиралтейская игла“. Такая последовательность строк воспринимается как последовательное облегчение стиха („ускорение“, „заострение“). Причина такого восприятия понятна: четыре слова начальной строки требуют для своего узнавания четырех психологических усилий, два слова последнней строки — двух». Формулировка нашла изящное завершение в рассуждении Р. Тименчика: «Иллюзия „заострения“ оказалась созвучной изображенному в стихе предмету — острию. Укол совпал и как бы проиллюстрировал лексическую тему стиха. И в подавляющем большинстве случаев 54-й пушкинский стих воспроизводится другими поэтами в завершении строф и целых стихотворений, образуя „шпильку“ другого рода — выход на легко узнаваемую цитату. Кроме того, здесь для поэтов была соблазнительной аналогия стихового массива и силуэта воспеваемого города: стихотворение или его часть выводит к теме шпиля подобно тому, как старинные улицы петровской столицы были ориентированы на „высотную доминанту“, на заостренную вертикаль». И если это так (а это так), то лексико-ритмическая ориентация строфы вверх моментально актуализирует и заново обозначает то, что в естественном режиме чтения и письма не ощущается — разворачивания строфы сверху вниз. Возможность перевернуть Адмиралтейскую иглу заложена уже здесь, перевернуть, сделав элементом мирового граммофона, озвучивающего пластины земли.
Любопытнейший пример предельного заострения строфы есть у Марины Цветаевой. Она москвичка, Адмиралтейской иглы как таковой нет в ее произведениях, но ее описания Кремля подобны описаниям Адмиралтейства петербургскими поэтами. В цикле «Стихи к дочери» есть стихотворение:
Кремлевская башня увенчана колыбельным шпилем «Спи…». Через два года в богородичном стихотворении «Сын» особенно видна рифма как вершина строфической башни: