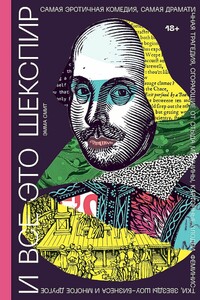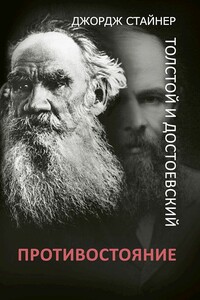Миры и столкновенья Осипа Мандельштама | страница 81
(III, 92)
Звучащий образ Чапаева входит в поэта, как спасительная просфора: «В раскрытые рты нам…». Чапаев вручает «неисправимому звуколюбу» голос, который в свою очередь выручает, спасает его самого, помогает «вынырнуть в явь» (Белый). В хлебниковской «Трубе Гуль-муллы»:
(I, 234–235)
Иконический образ «рыб звукопаса» и структура жертвоприношения примиряют непримиримое: палач превращается в жертву, а прежняя жертва спасает своих мучителей. И мучители, и жертвы принадлежат некоей общей ситуации, разделяют одну участь. Марина Цветаева писала:
(I, 287)
Мандельштам настойчиво повторяет это «мы», но сама эта общность, единство с Чапаевым там, где дышит почва и судьба, — его личная проблема («мы» как проблема «я»), факт его самосознания и выбора. Как говорил Рембо: «Нужно быть решительно современным» (Il faut etre absolument modern). И Мандельштам — был. Мераб Мамардашвили в одном из интервью так говорил об этом стихотворении Мандельштама и его отношении к постреволюционной культуре:
«…Не имеет смысла жить ностальгией по прекрасной прошлой культуре и пытаться делать так, чтобы ностальгия была движущим мотором теперешнего творчества, потому что это необратимо ушло. Этого не восстановить, и, самое главное, завязать никаких связей с этим невозможно, между нами — пропасть, начиная с 1917 года. Случилась космическая катастрофа, и все рухнуло в пропасть, и я вот здесь, а это — там. И нет никаких путей, чтобы что-то делать сейчас с завязкой на это, культивируя это, восстанавливая и продолжая. Если что-то будет, то только одним способом — только из того, что есть. В том числе из того „человеческого материала“ („материал“ — в кавычки, конечно, дикое выражение), который есть. Ниоткуда, из ностальгии и культивации архивных чувств, ничего родится не может. <…> Не из архивного, не из ностальгии, следовательно, а из — кто эти? И вот у Мандельштама появляется образ „белозубых пушкинистов“, т. е. комсомольцев с винтовками, которые были конвоирами Мандельштама. Вот из этих. Вот о чем шла речь. Ощущение — быть с кем — было для него важно. Быть с этими. <…>
И поэтому, скажем, критики не замечают, все время упираясь в эту проблему: я болен, а все остальные здоровы, или: я здоров, а все остальные больны (на что решиться очень трудно, конечно). И какое-то время Мандельштам не решался якобы видеть в себе единственного здорового, а всех — больными, а потом, значит, преодолел это и объявил себя все-таки единственно здоровым, да? <…> Но было и другое, прямо не вытекающее из первого: момент вот этого историософского глубокого взгляда или взвешивания, где человек решался на то, чтобы не ностальгировать… <…>