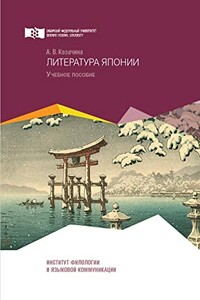Миры и столкновенья Осипа Мандельштама | страница 174
(I, 400)
Слиянность для начинающего поэта лика Революции и Поэзии уже была заявлены в «Музе девятьсот девятого» (сб. «Поверх барьеров», I, 490). Две девятки подчеркивали время выбора Музы поэзии (в данном случае — Музы эпической поэзии Каллиопы) из девяти ее сестер и ставили этот выбор в прямую зависимость от Музы революции 1905 года:
(I, 490)
В стихотворении 1923 года «Бабочка-буря» кровавая сущность революции окрасит крылья бабочки-инфанты в красный цвет и из куколки вырвется «Большой Павлин Большого дня». (Эпическая Муза «Высокой болезни» Пастернака заражена двуличностью преданности и предательства. Казнь — орфоэпическая норма песни.) Но летом 1917 года беззаботная детскость новорожденной жизни, казалось бы, еще не слишком омрачена «тоски хоботом», еще тянется «в жажде к хоботкам» лета (цветков, насекомых), остроумничает и озорничает. Пастернак пишет свою вольную вариацию «детей дня», вариацию на тему, заданную Маяковским. Стихотворение называлось «Наша гроза» и следовало пятым в разделе «Занятье философией» (после «определений» — поэзии, души, творчества и диагностики «болезней земли»). Текст шел по разряду жизни, природной одушевленности языка поэзии, настойчивого преобладания здорового смеха дня над тоской ночи, он был очистительной прививкой хмельного ливня: