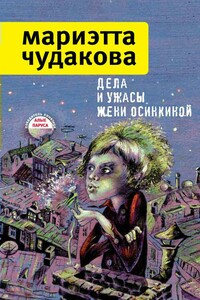Новые работы 2003—2006 | страница 60
Как раз в это время Н. Островский и М. Булгаков выдвинули, опережая официоз, своих кандидатов на роль героя времени. И не просто положительного, а – героического, идеального.
Мифологический герой[255] обычно наделяется
«сверхчеловеческими возможностями ‹…›. Невозможность личного бессмертия компенсируется в героическом мифе подвигами и славой (бессмертием) среди потомков. ‹…› В мифах укрепляется идея страдания героической личности и бесконечного преодоления испытания и трудностей. ‹…› Подвиги и страдания Героя рассматриваются как своего рода испытания, вознаграждение за которые приходит после смерти».[256]
Огромные возможности (в том числе творческие – угадывание событий, совершавшихся около двух тысяч лет назад), страдания и бесконечные преодоления с посмертным вознаграждением[257] – все это, во всяком случае, – про обоих героев, созданных (или задуманных – как будущий материал) в 1931 году. Зато обязательный в героическом мифе уход или изгнание героя из своего социума, как и «временная изоляция и странствия ‹…› на небе или в нижнем мире, где и происходит приобретение духов-помощников», обращают нас преимущественно к судьбе Мастера.
Герой «может превратиться в мистериальную жертву, проходящую через временную смерть (уход/возвращение – смерть/воскресение)». Рискнем настаивать, что представления о конце земной жизни героев, выраженные в одном романе – в выученном наизусть несколькими поколениями пассаже («… и прожить ее надо так…» и т. д.), а в другом – в словах Азазелло («… Ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!», с. 360), – у обоих писателей внутренне сближены.
Зато перипетии «героического детства», «биографическое “начало”», которые в героическом мифе ведут «к формированию личности, превращающейся в героя, служащего своему социуму и способного в дальнейшем поддержать космический порядок»,[258] – это все атрибуты героя Н. Островского с его отношением к социуму и к общему земному порядку, будущей Мировой Революции, которой он, несомненно, послужит и после смерти. У Мастера же все его прошлое отсечено и остается неизвестным читателю (реакция на социальный регламент – Булгаков не мог рассказать «истинную» биографию своего героя, а начинать с середины не хотел), а его настоящее и будущее не воздействуют на социум.